Стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники - [3]
3
Я белым камнем этот день отмечу.
Мы были в цирке и пришли уж поздно:
На всех ступенях зрители теснились.
С трудом пробились с Манлием мы к месту.
Все были налицо: сенат, весталки;
Лишь место Кесаря еще пустело.
И, озирая пестрые ступени,
Двух мужей я заметил, их глаза
Меня остановили... я не помню:
Один из них был, кажется, постарше
И так смотрел, как заклинатель змей,
Глаз не сводил он с юноши, тихонько,
Неслышно говоря и улыбаясь...
А тот смотрел, как будто созерцая
Незримое другим, и улыбался...
Казалось, их соединяла тайна...
И я спросил у Манлия: "Кто эти? "
- Орозий-маг с учеником; их в Риме
Все знают, даже задавать смешно
Подобные вопросы... тише... цезарь.
Что будет, что начнется, я не знаю,
Но белым камнем я тот день отметил.
4
С чем сравню я тебя, тайной любви огонь?
Ты стрела из цветов, сладкую боль с собой
Нам всегда ты несешь; ты паутины сеть,
Льву ее разорвать нельзя.
Аргус ты и слепец, пламя и холод ты,
Кроткий, нежный тиран, мудрость безумья ты,
Ты - здоровье больных, буря спокойная,
Ты - искатель цветных камней.
Тихо все в глубине; сердце как спит у нас:
Эрос, меткий стрелок, сердце пронзит стрелой
Славно луч заблестит алой зари дневной.
Мрак ночной далеко уйдет.
Все сияет для нас, блеском залито все,
Как у лиры струна, сердце забьется вдруг,
Будто факел зажгли в царском хранилище,
Мрак пещеры убит огнем.
Эрос, факел святой, мрак разогнал ты нам,
Эрос, мудрый стрелок, смерть и отраду шлешь,
Эрос, зодчий-хитрец, храмы созиждешь ты,
Ты - искатель цветных камней.
5
Я к магу шел, предчувствием томим.
Был вечер, быстро шел я вдоль домов,
В квартал далекий торопясь до ночи.
Не видел я, не слышал ничего,
Весь поглощенный близостью свиданья.
У входа в дом на цепи были львы,
Их сдерживал немой слуга; в покоях
Все было тихо, сумрачно и странно;
Блестела медь зеркал, в жаровне угли
Едва краснели. Сердце громко билось.
К стене я прислонившись, ждал в тиши.
И вышел маг, но вышел он один...
6
Радостным, бодрым и смелым зрю я блаженного
мужа,
Что для господства рожден, с знаком царя на челе.
Всем не одно суждено, не одно ведь для всех
добродетель,
Смело и бодро идет вечно веселый герой.
В горных высотах рожденный поток добегает до
моря.
В плоских низинах вода только болото дает.
С кровли ты можешь увидеть и звезды далекие в
небе,
Темную зелень садов, город внизу под холмом.
Скорым быть, радости вестник, тебе надлежит;
осушивши
Кубок до дна, говори: "Выпил до капли вино".
И между уст, что к лобзанью стремятся, разлука
проходит.
Скорым быть нужно, герой; куй, пока горячо.
Радостна поступь богов, легка, весела их осанка,
Смех им премудрей всего, будь им подобен, герой.
7
Казнят? казнят? весь заговор открыт!..
Все цезарю известно, боги, боги!
Орозий, юноша и все друзья
Должны погибнуть иль бежать, спасаться.
По всем провинциям идут аресты,
Везде, как сеть, раскинут заговор.
Наверно, правду Руф сказал, но что же будет?
И юноша погибнет! он шепнул мне:
"Во вторник на рассвете жди меня
У гаванских ворот: увидит цезарь,
Что не рабов в нас встретил, а героев".
8
Как помню я дорогу на рассвете,
Кустарник по бокам, вдали равнину,
На западе густел морской туман,
И за стеной заря едва алела.
Я помню всадника... он быстро ехал,
Был бледен, сквозь одежду кровь сочилась,
И милое лицо глядело строго.
Сошел с коня, чтоб больше уж не ехать,
Достал мне письма, сам бледнел, слабея:
"Спеши, мой друг! мой конь - тебе, скорее,
Вот Прохору в Ефес, вот в Смирну; сам ты
Прочтешь, куда другие. Видишь, видишь,
Меж уст, к лобзанью близких, смерть проходит!
Убит учитель, я едва умчался.
Спеши, мой милый (все слабел, склоняясь
Ко мне). Прощай. Оставь меня. Не бойся".
И в первый раз меня поцеловал он
И умер... на востоке было солнце.
9
Солнце, ты слышишь меня? я клянуся великою
клятвой:
Отныне буду смел и скор.
Солнце, ты видишь меня? я целую священную
землю,
Где скорбь и радость я узнал.
Смерть, не боюсь я тебя, хоть лицом я к лицу тебя
встретил,
Ведь радость глубже в нас, чем скорбь.
Ночь! Мне не страшен твой мрак, хоть темнишь ты
вечернее небо;
К нам день святой опять придет!
Всех призываю я, всех, что ушли от нас в мрак
безвозвратный,
И тех, чья встреча далека;
Вами, любимыми мной, и которых еще полюблю я,
Клянуся клятвою святой.
Радостный буду герой, без сомнений, упреков и
страха,
Орлиный взор лишь солнце зрит.
Я аргонавт, Одиссей, через темные пропасти моря
В златую даль чудес иду.
Август 1904
587-603. СОНЕТЫ
1
С тех пор как ты, без ввода во владенье,
Владеешь крепко так моей душой,
Я чувствую, что целиком я - твой,
Что все твое: поступки, мысли, пенье.
Быть может, это не твое хотенье
Владеть моею жизнью и мечтой,
Но, оказавшись под твоей рукой,
Я чувствую невольное волненье:
Теперь, что я ни делаю - творю
Я как слуга твой, потому блаженство
В том для меня, чтоб, что ни говорю,
Ни делаю - все было совершенство.
Хожу ли я, сижу, пишу ль, читаю
Все перлом быть должно - и я страдаю.
2
Ни бледность щек, ни тусклый блеск очей
Моей любви печальной не расскажут
И, как плуты-приказчики, покажут
Лишь одну сотую тоски моей.
Ах, где надежды благостный елей?

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
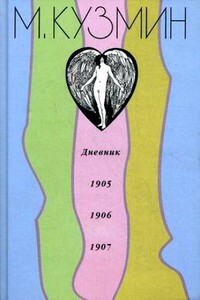
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Жизнь и судьба одного из замечательнейших полководцев и государственных деятелей древности служила сюжетом многих повествований. На славянской почве существовала «Александрия» – переведенный в XIII в. с греческого роман о жизни и подвигах Александра. Биографическая канва дополняется многочисленными легендарными и фантастическими деталями, начиная от самого рождения Александра. Большое место, например, занимает описание неведомых земель, открываемых Александром, с их фантастическими обитателями. Отзвуки этих легенд находим и в повествовании Кузмина.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая». Вместе с тем само по себе яркое, солнечное, жизнеутверждающее творчество М. Кузмина, как и вся литература начала века, не свободно от болезненных черт времени: эстетизма, маньеризма, стилизаторства.«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» – первая книга из замышляемой Кузминым (но не осуществленной) серии занимательных жизнеописаний «Новый Плутарх».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».