Современная польская повесть: 70-е годы - [13]
На следующий день он предпринял последнюю попытку сломить сопротивление извозчика. Еще раз устроил очную ставку. Ввели Сикста. Извозчик поспешно отвернул голову и уставился в окно. Он спросил, известен ли ему этот человек. Тот, не раздумывая, ответил, что посещает все богослужения в монастыре и потому знает всех тамошних монахов. И этого тоже. Он велел ему еще раз присмотреться к Сиксту. — Вглядитесь внимательней — настаивал он. — Этот человек подходил к стоянке, чтоб нанять вашу пролетку? — Нет! — заявил решительно упрямец, не сводя глаз с Сикста. — Не видел я его тогда… — Сикст вскочил со своего места. Подошел к извозчику и встал перед ним на колени. — Человече — громко сказал он — молю тебя: говори правду. Я освобождаю тебя от клятвы. Сделай это, и ты спасешь себя и мою совесть… — Он так и стоял, глядя на извозчика. — Нет — послышалось через некоторое время. — В глаза не видел я тогда этого человека. Он не подходил ко мне. — Сикст встал, отошел на прежнее место. И руками закрыл лицо. — Итак, — обратился он к извозчику спокойным ровным голосом — вы сами распорядились своей судьбой… — Как это так? — спросил тот с беспокойством. — Напишите жене, чтоб поискала хорошего адвоката — пояснил он. — Задача у него будет не из легких. Ваше дело будет рассматривать суд, который вынесет приговор и этому… — Он указал на Сикста, но извозчик не повернул головы в его сторону. — Как же так? — крикнул он. — Ведь я не сделал ничего худого! Нельзя судить невинного человека… — Он дал знак надзирателю и велел отвести извозчика в камеру. Все это он в тот же день описал в письме к Ольге. В поведении извозчика — что, несомненно, почувствовал и сам Сикст, столь театрально преклонивший колени, — было еще — кроме страха перед утратой веры — и человеческое достоинство. «Выходит, — писал он ей — можно доискаться его и во лжи, если человек намерен спасти других либо — что более вероятно— спасти идею, в которую верит сильнее, чем в чувство справедливости у ближних». В письме он не упомянул о разводе. Посчитал, что она может воспринять это как попытку давления с его стороны. Ни ей, ни ему это не нужно. Зато написал о недомоганиях, которые вновь дали о себе знать, и о том, что здешний доктор считает его болезнь результатом переутомления. Отшутился по поводу отдыха и старательно запечатал конверт, чтоб отправить его в тот же самый вечер. Дело постепенно двигалось вперед. Сикст — несмотря на явное утомление — не терял желания рассказывать в подробностях свою жизнь. Появлялось все больше свидетелей. Надо было выбирать из их числа тех, кто окажется более полезным на процессе. Прибыла также — подчиняясь срочному вызову — хозяйка квартиры, которую Сикст снимал в Варшаве. Облаченная в негнущееся зеленое платье сорокалетняя шумная женщина. Она отвечала на вопросы, поигрывая висящими на цепочке миниатюрными золотыми часиками. — Господин следователь — пустилась она в объяснения, щуря глаза, словно они у нее болели от яркого солнца, заливавшего кабинет — за свою жизнь я сталкивалась с самыми разными людьми, и до сих пор всегда считала, что могу угадать, что кроется у человека за душой… — Из доставленных варшавской полицией сведений, которые он вновь пробежал глазами перед ее приходом, явствовало, что дама — содержательница старательно закамуфлированного борделя, где бывали люди из высшего общества… В рапорте промелькнули даже кое-какие имена. Это были директора, президенты, сановники и секретари важных ведомств. Поляки и русские. Дама держалась самонадеянно, уверенная, надо полагать, в своих покровителях. — На этот раз, господин следователь — продолжала она — я сильно обманулась. Целиком доверилась этим людям. Я вдова. У меня большая — слишком большая, если учесть мои потребности, — квартира, и я сдаю несколько комнат внаем. Я женщина самостоятельная — продолжала она с кокетливой улыбкой — но у меня есть, разумеется, требования. Я решилась сдавать — разумеется, особам, достойным доверия, — свободные комнаты. Никогда у меня не было никаких хлопот с моими жильцами. В Варшаве сейчас не так-то просто с квартирами, потому что приезжих все больше. Хорошие комнаты в цепе. Один мой знакомый монах — было установлено, что это отец Дамиан, друг Сикста, помогший ему бежать после того, как был выловлен труп, — порекомендовал мне этого человека, уверяя, что это его кузен, приехавший вместе с женой на некоторое время из провинции с намерением продать свое имение. Оба с первого взгляда произвели на меня благоприятное впечатление. Согласитесь, господин следователь — она по-прежнему улыбалась — на такую рекомендацию можно положиться… — В самом деле — подумал он. — Дамиан посещал ее девочек, приезжая в Варшаву. Была у него еще и постоянная любовница, не подтвердившая, однако, знакомства с ним, когда ее привлекли к следствию. Эта связь не мешала Дамиану быть завсегдатаем салона в Аллеях, куда — как признался Сикст, по-видимому посвященный во все секреты — Дамиан являлся неизменно с засахаренными фруктами — любимым лакомством барышень — или же с коробкой лучших шоколадных конфет. Сикст рассказывал это с величайшей неохотой. Что ни говори, очернял друга, помогшего ему в самое трудное время. Но он решил говорить правду до конца. Не щадить никого. — Я согласилась сдать им комнату. Мне пришлась по сердцу Барбара. Много времени мы проводили вместе. Должна вам сказать, господин следователь — тут она перестала играть с часиками и положила руки на стол, рассматривая свои длинные, точеные пальцы — Барбара очень умная и красивая женщина. По моим наблюдениям, куда интереснее этого Сикста. Мы частенько беседовали, кстати сказать, об искусстве. Не очень-то я в нем смыслю, но она сумела пробудить во мне любознательность. Я не разделяла ее взглядов на нынешнюю мораль. Сама я сторонница — она врала не моргнув и глазом — строгих нравственных правил, в которых меня воспитали… — Он молчал. Достаточно одного вопроса, одного хотя бы имени из полицейского рапорта, который был у него на столе под руками, чтоб мгновенно смешать ей карты и заставить переменить тактику. Но он решил молчать. Может быть — рассуждал он сам с собой — лучше не выводить ее пока из роли. До процесса. И лишь в зале суда двумя-тремя невинными вопросами обнажить истинный облик сводницы. Не следует избегать — если это служит серьезным целям — театральных эффектов в момент судебного разбирательства. Даже тогда, когда следишь за подлинной драмой, один опереточный эпизод вдруг приблизит все к жизни, вызовет напряженность, которая в свою очередь разбудит воображение людей, привыкших мыслить правовыми нормами и юридическими формулировками. Этому он научился от своих наставников. Судебный процесс, говорили они ему, тот же театр. Только в этом театре нет места вымыслу… — Барбара — продолжала меж тем неутомимая дама — заявила, что она сторонница свободной любви — тут она опустила глаза. — Такова сейчас мода. Я уверена, она позабудет все это, когда в ней проснется материнский инстинкт. Ведь не грозит же ей — и тут она подняла глаза — серьезный приговор? — Такие вопросы решает суд, мадам — ответил он. — Это невиннейшее существо — продолжала дама с жаром. — Сикст, разумеется, ее растлил. Я глубоко убеждена: Барбара не знала, кем в действительности является этот человек. Всякий раз, когда он уезжал из Варшавы, он говорил, что ему предстоят хлопоты по важным имущественным делам… — Если в ходе допроса — думал он — хоть каким-то образом дать ей понять, что известна тайна ее салона, хотя бы кое-какие подробности относительно Дамиана, она тотчас по возвращении прибегнет к услугам варшавского адвоката, а тот наверняка научит ее, что говорить в суде. Беспокойство почувствуют и титулованные завсегдатаи ее гостеприимного дома. Интересно, взвешивал он, не соблазняла ли она Барбару на еще более распутную и, уж конечно, более заманчивую жизнь? Столько наговорила о ее красоте и небывалых талантах. Такие дамы всегда охотятся за девицами, которые могут заманить новых клиентов. Если так оно и есть — ведь живя в этом доме, Барбара не могла не знать, что там происходит, — то какова была ее реакция? Он пометил на листке бумаги, где разрабатывал план ее допроса, что надлежит осторожным образом коснуться разговоров о свободной любви, которые велись в их варшавской квартире. — Барбара — не унималась дамочка — была убеждена, что он впрямь уезжает по делам. — Тут она какое-то мгновение взвешивала, не слишком ли это наивно. — Ну, во всяком случае — добавила она — о подлинных причинах его поездок она ничего не говорила… — Он осведомился, не было ли у нее в Варшаве родственников или близких друзей. Дама ответила, что ей об этом ничего не известно. Об убийстве она узнала из газет. В тот момент она была близка к обмороку. Больше всего жалела Барбару. Все же она верит, что судьба — после стольких испытаний — будет благосклоннее к несчастной. За три месяца до этого события — закончила дама — они съехали от нее, поблагодарив за комнату. Сикст сказал, что ему удалось успешно решить свои имущественные дела и он нашел в Варшаве более удобную квартиру. Она и Барбара поклялись встретиться через некоторое время в кафе, она даже ожидала, что будет приглашена к ним, как только они устроятся на новой квартире. — Он поблагодарил свидетельницу за показания. В последний момент, когда она уже закрыла сумочку, из которой достала перчатки, он попросил ее немного подождать. Ему хочется задать ей важный вопрос, и он рассчитывает, что она будет с ним откровенна. Он сотрясался от внутреннего смеха, разыгрывая смущение, перед тем, как задать щекотливый вопрос, а дама клюнула, кажется, на удочку. — Мне хотелось бы знать — и это имеет серьезное значение — не делилась ли она с вами когда-либо подробностями своей интимной жизни?.. — Дама посмотрела испуганными глазами. — Что ж — начала она — Барбара говорила, что он добрый… — Я спрашиваю — повторил он — о подробностях их интимной жизни. Судя по вашим рассказам, отношение у вас к ней было чисто материнское и вы добились ее доверия. В такой ситуации молодая женщина часто советуется, как ей быть с мужчинами. И тут наступает подходящий момент для самых интимных признаний. — Господин следователь — поспешила она возмутиться — мы никогда не разговаривали с ней об этом… Уверяю вас… — И она потупилась. — Барбара говорила, что очень любит этого человека и что это тот мужчина, которого ждет женщина. Это было сказано с такой непосредственностью, что я была просто растрогана. Непосредственность теряет лишь тот — пояснила она — кому есть что таить. Она же говорила мне, что жила с другими мужчинами, но что ни один из них не был ей так близок. Я уже упоминала: в том, что касается чувства — а мы говорили об этом — она признавала нерасторжимость любви духовной и физической. Чем сильней пробуждает, по ее мнению, телесную страсть мужчина, тем глубже чувство, которым хочется его одарить. И это, пожалуй, все, что я могу сказать без опасения нарушить нашу женскую тайну и осложнить жизнь и без того уже измученного судьбой существа. — Он любезно попрощался и проводил даму до дверей. Возвращаясь, закурил папиросу и спросил у протоколиста, что он о ней думает. Тот сощурил глаза за толстыми стеклами очков. И, вздохнув, ответил: — Породистая женщина. И характера сильного… — Он только рассмеялся. — О да! — сказал он — облагороженная шлюха. — Протоколист онемел. — Господин следователь… — пробормотал он. Только тут ему пришло в голову, что секретарь не знает содержания донесений, лежащих у него на столе. — Собирайте свои бумаги — буркнул он — у меня разболелась голова… — Он удивился, когда на очередном допросе — вскоре после того, как Сикст рассказал ему о встрече на монастырских стенах, — тот вдруг стал проявлять оживление. — Это очень важный период, господин следователь — объяснял он. — Сейчас мне кажется, что это может способствовать пониманию всех моих дальнейших действий. Но суть и в другом. Я часто возвращаюсь мыслями к тем неделям. Как раз тогда — трудно определить время с абсолютной точностью, но, думаю, длилось это несколько недель с момента знакомства — я вел трудную и изнурительную борьбу. В конце концов я оказался побежденным, это верно. Совершенно ясно, я не тот, кому дано побеждать искушения. Уверяю вас, моему падению предшествовала неистовая борьба. — Что ж именно вы делали? — спросил он, чтоб как-то прервать поток многословия. Сикст закивал с готовностью головой. Он расскажет все подробнейшим образом. И, продолжая слушать, он думал, что его отношение к этому человеку меняется — а это было тревожным признаком — едва ли не с каждым допросом. Своей психической неуравновешенностью он вызывал сначала что-то вроде сочувствия. В ту пору он внимательнейшим образом наблюдал за арестованным. Выбитый из привычной колеи, тот вел себя, как всякий, кто впервые оказался за стенами тюрьмы. К тому же еще и понимал, что он узник необычный, и каждый его шаг вызывает всеобщее любопытство. Потом Сикст принялся все чаще рассуждать о покаянии. Он долго не мог сориентироваться, не нарочно ли это, не желание ли замести следы, вымарать что-то из биографии. Но потом убедился, что ошибся. Наступило явное изменение в облике арестованного. Он заботился о чистоте. Лицо, в особенности глаза выражали какой-то внутренний подъем. По-видимому, он чувствовал себя теперь лучше. Продолжал говорить о покаянии. Тема эта по-прежнему не оставляла его, и говорил даже с какой-то лихорадочностью, но уже нетрудно было понять, что покаяние — один из элементов оборонительной тактики узника и он будет придерживаться этого до конца. Упоминал и о дьяволе. Разумеется, Сикст догадался, что следователь не относится к его экскурсам всерьез, и потому сатана вначале был фигурой, если можно так выразиться, но вполне определившейся. Символом, почерпнутым из традиции. Итак, постепенно — он, разумеется, действовал, ясно осознавая цель, — он приближался к пониманию натуры Сикста. Поэтому он и позволял арестованному разглагольствовать часами о влиянии, какое дьявол оказывает на поступки человека. Делал вид, будто понимает, что тот в силу своего призвания и в самом деле разбирается в кознях дьявола. И даже унюхал, в чем дело. Сикст пытался доказать, что был грозным противником сатаны в борьбе за свою душу. Потому-то сатана и накинулся на него с таким остервенением. Отсюда все эти искушения. Он увлекся настолько, что принялся описывать свои беседы с дьяволом. Происходили они якобы в те ночи, когда его сои бывал чуток. — Но послушайте — вырвалось у него — я тоже часто разговариваю сам с собой. Даже ловлю себя на том, что говорю вслух… — Итак, дьявол стал навещать Сикста в его келье вскоре после той памятной исповеди, когда какой-то гонец вручил ему напечатанную, по всей видимости в Кракове, книжечку с внушающей ужас молитвой. — Понимаю, господин следователь — сказал он, задетый за живое. — Вам трудно во что-то такое поверить. Но я утверждаю: последовательность событий не была случайностью. Взвесьте хорошенько. — Итак, сатана подбрасывает брошюрку, потрясшую воображение Сикста… Подсовывает ему затем женщину. Потом в бестелесной своей ипостаси затевает что-то вроде диалога… Приходилось, к сожалению, выслушивать терпеливо эти бредни. — Мне хотелось бы подчеркнуть, господин следователь — заключенный глядел все теми же пылающими глазами — это мое состояние ни в коей мере не свидетельствует о нарушении психического равновесия. Это не болезненные химеры. Мои попытки рассказать обо всем этом, признаюсь, очень неудачны. Свидетельствуют о беспомощности. Обратите внимание: и здесь тоже можно почувствовать руку дьявола, ведь это он смешал когда-то языки — добавил Сикст с улыбкой. — Я хорошо знаю, не все можно передать словами, и в глубине души человек часто сам с собою ведет… — похоже, что от его внимания ускользнуло это «сам с собою»: Сикст вдруг как бы вышел из затверженной роли и забыл о бдительности следователя — беседы, которых потом пересказать или описать не в силах, просто не находит слов, которые могли бы передать всю тяжесть обуревающих его в эти минуты мыслей. Это все равно что описывать музыку, господин следователь. Минуты самого тесного моего сближения с богом — для разнообразия он стал разрабатывать и эту тему — связаны с музыкой, благодаря ей мне легче постичь его суть… — Да вы поэт! — сказал он, поморщившись. — Мне почему-то всегда казалось, что у вас, у людей духовного сословия, самые надежные способы сближения с богом и вы нащупываете более верные пути. — Господь повсюду! — с жаром прервал его Сикст. — Он может объявиться в любом человеческом обличье… — Да поймите вы наконец — он удобнее устроился на стуле и посмотрел на арестованного с явным неудовольствием — эти откровения не имеют для меня ни малейшей ценности… — Догадываюсь, господин следователь — парировал Сикст. — Но позвольте высказаться до конца. Ведь это вы просили, чтоб я был предельно откровенен в наших беседах. И мне важно, чтоб вы правильно поняли состояние моего духа, прежде чем мы перейдем к событиям, которые затем последовали… — Хорошо — согласился он — только давайте поближе к фактам. Не могу поручиться, что в ваших показаниях нет теологической глубины, но мне это совершенно безразлично. Я не верю, учтите, ни в дьявола, ни в то, что можно считать его отрицанием… — Сикст шевельнулся нетерпеливо на табуретке. — Надеюсь, вам не пришло в голову — он пожал плечами — заняться моим обращением… — Ваша вера — ваше личное дело — ответил Сикст — порой всевышний говорит устами людей наименее достойных, господин следователь… — Он только улыбнулся, услышав такую сентенцию. Именно тогда он впервые почувствовал неприязнь. Арестованный петлял, явно желал дойти до сути окольными путями, искал объяснений своих действий вне обычного человеческого опыта. И он пропустил мимо ушей дальнейшие рассказы Сикста о ночных посещениях, когда тот боролся со своим преследователем. В это время он думал о другом, дивился себе, что так мало места в своих мыслях уделяет Ольге. Внезапная разлука отодвинула ее на дальний план, и он не был уверен, что это можно объяснить одной лишь усталостью, вызванном необходимостью скрывать их отношения. Зато все чаще он возвращался мыслью к своим встречам со здешним врачом. Ко всему, что происходило близко и недавно. Впрочем, врач был человеком чужим. Чужим был и город, куда он приехал. Но именно о разговорах около высокой, осыпанной гроздьями ягод рябины он чаще всего и думал. О научных работах врача, которые, по-видимому, ни к чему не приведут, ибо поиски в философии — пусть даже в логике, оторванной от философии, — показались ему занятием слишком рискованным при постановке диагноза. Но он невольно восхищался иным: тем, что было вне научных интересов этого провинциального доктора, а именно той страстью, с какой он работал в этом неуютном, прозябающем на краю света городке, который, казалось, истлевал, застряв где-то в середине прошлого века. Разве здесь, на пограничной станции Хербы, может начинаться для кого-то вселенная? Человеку, прибывшему из столицы, с берегов Невы, это представляется немыслимым. Рост промышленности, забастовки, приток капитала из-за границы — все это, разумеется, реальность, но истинная жизнь обитающих здесь людей течет по какому-то иному, скрытому от глаз руслу. Доктор казался ему человеком современным. Но своими увлечениями он гораздо ближе той эпохе, которая, несомненно, еще наступит до того, как совершится светопреставление. Возможно, он ошибался в своих оценках, но факт, что можно было думать о чем-то таком вообще, наполнял его неподдельным восхищением. И еще — это тоже пришло ему в голову, пока он слушал разглагольствования узника, — с доктором его объединила болезнь. Он чувствовал, что ключ к загадке в руках этого человека, в его взглядах, советах, в его опеке. Он решил при первой же возможности побеседовать с ним о тех делах, которые его больше всего сейчас волнуют. Он знал, что это будет разговор без экзальтации, которая раздражала его больше всего на свете. И если окажется — а это он тоже предвидел, как отдаленную, впрочем, и не очень доступную для воображения возможность, — что его болезнь— смертельный недуг, то этот человек не скроет от него правду. Он хотел поговорить с ним о совести… — Да, да, господин следователь — не унимался меж тем Сикст. — Господь глаголет устами людей недостойных… — Мне хочется попросить вас — резко оборвал он его — чуть побольше смирения. Я тоже верю, что в этих случаях господь прибегает к разным посредникам, но предпочел бы, чтоб он не делал этого вашими устами. Нам предстоит установить целый ряд конкретных фактов. Сообщите мне, пожалуйста, когда вы появились в Варшаве после ее первого отъезда? — Сикст улыбался, скаля зубы с раздражающей снисходительностью. Ему удалось вывести из себя своего мучителя, да еще беседуя с ним о боге. — В Варшаве? — повторил он. — Это было уже летом. Но прежде я получил от нее много писем. Письма я брал всегда на почте. Сначала не отвечал… — Все это было ему известно. Среди вещественных доказательств фигурировала пачка писем, перевязанная розовой лентой. Ее нашли во время обыска в комнате Барбары. Она сохранила их все, не предполагая, что когда-нибудь эти письма сыграют такую роль в определении размеров вины человека, который их написал. Поразительная беззаботность. Но об этом Сикст не знал. С самого начала переписки он — заканчивая письмо — всякий раз напоминал ей, чтоб она случаем не забыла его сжечь. Он читал все эти письма и намеревался еще не раз к ним вернуться. По ним можно было проверять память Сикста. Письма демонстрировали также истинные, но тайные его намерения, в той мере, разумеется, в какой они существовали. — Но потом — продолжал Сикст — стал отвечать. Умолял и заклинал, чтоб она позабыла обо всем, что произошло между нами. — А о своих ночных беседах с дьяволом, которые вы вели в то время в своей келье — тоже писали? — прервал он монаха. — Нет — ответил Сикст — об этом не писал. Это были вещи, которых женщина понять не в состоянии. — Отчего же? — удивился он. — Ведь она образованная… — Что тут общего с образованием! — фыркнул монах. — Понимаю, и все-таки… — Ничего, повторяю, ничего из моих признаний она бы не поняла— стоял на своем Сикст. — Это была моя величайшая тайна… — Вы не дали мне кончить — он наклонился над столом. — Вера этой женщины не вызывала у вас, кажется, никаких сомнений? — Вера? — повторил Сикст. — Нет. Я знал: она верующая. Но ее вера поверхностная. Очень часто женщины — в особенности, когда они впадают в самое обыкновенное ханжество — выказывают именно такую веру, очень близкую к язычеству. — Как это понимать? — спросил он. — У них нет способности мистического восприятия его присутствия — пояснил Сикст. — Не у всех, разумеется. В нашей церкви есть свои женщины-святые, чей дух вознесся до таких высот, что они чувствовали присутствие господне самым бесспорным образом. Эти женщины видели чудо и сами могли творить чудеса. Будни, впрочем, бывают иными. Я не верил в то, что Барбара может мне помочь или хотя бы понять то, что происходит в моей душе… В один прекрасный день я получил от нее таинственную телеграмму, которой она срочно вызывала меня в Варшаву — продолжал Сикст. — Она прекрасно знала, что ее приезд в монастырь не вынудит меня решиться на свидание. Тогда я еще боролся с собой, и ничто не предвещало близкого падения. Я перечел телеграмму много раз. Не помню точно ее содержания. Одно я понял — хотя прямо этого сказано не было, — что Барбара грозит покончить с собой. Это решило все. На следующий день — послав предварительно телеграмму с уведомлением о приезде — я сел в поезд… — Что вы сказали в монастыре? — спросил он. — Что еду к доктору. — Сикст понурил голову. — Разве в этом городе нет достойных врачей? — Есть — ответил Сикст. — Но я и прежде посещал варшавских докторов, когда лечился у них от бессонницы. У меня не было трудностей с разрешением на такую поездку. — Об этом нам известно, — заметил он. — Скажите, покидая монастырь, вы приводили каждый раз все те же причины? — Нет — Сикст вновь потупился. — Иногда я говорил, что еду навестить родственников… — Это была правда. В более поздних письмах к Барбаре бывали просьбы, чтоб она присылала на его адрес телеграммы с вызовом к больной матери или брату. И Барбара каждый раз такие телеграммы высылала… — Какова же была ваша новая встреча? — он вновь откинул голову на спинку стула. Полагалось, собственно, прервать допрос, но они подошли к важному перекрестку. — Когда в Варшаве я вышел из поезда — начал Сикст — в толпе на перроне я заметил маленькую быстро приближавшуюся ко мне фигурку и понял, что не отступлю и не позволю никому отнять ее у меня. Я богохульствовал в какой-то безумной радости. Мне казалось, я обретаю себя. Люди останавливались, глядя на нас. На мне, разумеется, не было рясы, но все-таки и опасался, что кто-нибудь может меня узнать, однако страх не сдержал меня, я не мог отстранить ее от себя. Я был счастлив, как человек, который после долгой ночи видит зарю, видит появление солнца в его божественном величии…

Повесть показывает острую классовую борьбу в Польше после ее освобождения от фашистских захватчиков. Эта борьба ведется и во вновь создаваемом Войске Польском, куда попадает часть враждебного социализму офицерства. Борьба с реакционным подпольем показана в остросюжетной форме.

Два убийства, совершенный Войцехом Трепой, разделены тридцатью годами, но их причина коренится в законах довоенной деревни: «Доля многих поколений готовила его к преступлениям». В молодости Трепа убил жениха сестры, который не получив в приданное клочка земли, бросил беременную женщину. Опасение быть разоблаченным толкнуло Трепу спустя годы на второе убийство.Эти преступления становятся предметом раздумий прокурора Анджея табора, от лица которого ведется повествование.
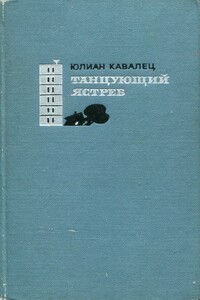
«…Ни о чем другом писать не могу». Это слова самого Юлиана Кавальца, автора предлагаемой советскому читателю серьезной и интересной книги. Но если бы он не сказал этих слов, мы бы сказали их за него, — так отчетливо выступает в его произведениях одна тема и страстная необходимость ее воплощения. Тема эта, или, вернее, проблема, или целый круг проблем, — польская деревня. Внимание автора в основном приковывает к себе деревня послевоенная, почти сегодняшняя, но всегда, помимо воли или сознательно, его острый, как скальпель, взгляд проникает глубже, — в прошлое деревни, а часто и в то, что идет из глубин веков и сознания, задавленного беспросветной нуждой, отчаянной борьбой за существование. «Там, в деревне, — заявляет Ю.

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
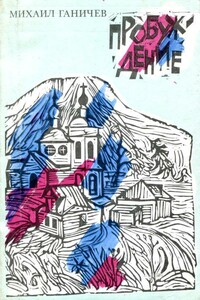
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Эта книга пригодится тем, кто опечален и кому не хватает нежности. Перед вами осколки зеркала, в которых отражается изменчивое лицо любви. Вглядываясь в него, вы поймёте, что не одиноки в своих чувствах! Прелестные девочки, блистательные Серые Мыши, нежные изменницы, талантливые лентяйки, обаятельные эгоистки… Принцессам полагается свита: прекрасный возлюбленный, преданная подруга, верный оруженосец, придворный гений и скромная золушка. Все они перед Вами – в "Питерской принцессе" Елены Колиной, "Горьком шоколаде" Марты Кетро, чудесных рассказах Натальи Нестеровой и Татьяны Соломатиной!

Этот сборник составлен из историй, присланных на конкурс «О любви…» в рамках проекта «Народная книга». Мы предложили поделиться воспоминаниями об этом чувстве в самом широком его понимании. Лучшие истории мы публикуем в настоящем издании.Также в книгу вошли рассказы о любви известных писателей, таких как Марина Степнова, Майя Кучерская, Наринэ Абгарян и др.
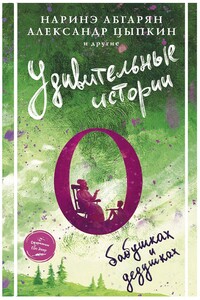
Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно — все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное — о любимых. О том, как признаются в любви при помощи классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. Удивительные истории.

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!