Современная польская повесть: 70-е годы - [15]
Сикст был все в том же приподнятом настроении. — Каждое утро, господин следователь — сказал он, придвигая поближе стул — к окну моей камеры прилетают два голубя. Один серый с белыми пятнышками на крыльях. У другого такие же точно коричневые пятна. Кормлю их хлебом. Они прилетают всегда в одно и то же время. Я жду их. В них что-то от великой чистоты… — Может, вы и правы — заметил он. — Не придавайте только, пожалуйста, их появлению символического смысла… — Отчего бы мне этого не делать? — улыбнулся Сикст. А он подумал: любопытно, что они могут символизировать? Но не хотелось в начале допроса раздражать арестованного. — Я часто размышляю о смерти — продолжал Сикст. — Смерть не существует вне моральных категорий. Иначе говоря, мы должны придавать ей моральный смысл. Часто размышляю… Я убежден, что моя жизнь близится к концу… — Отчего же такие мысли? — осведомился он. — Вы что, плохо себя чувствуете? — Напротив — ответил Сикст. — Чувствую себя превосходно, если учесть условия, в каких живу. Никогда я не думал, что вид птиц на подоконнике может таить в себе какой-то моральный смысл. Если мы сами, конечно, несем в себе что-то очищающее. — Ищите лучше моральный смысл не в смерти, а в жизни… — прервал он его. — Вы заблуждаетесь, господин следователь — не унимался Сикст. Он держался все более самоуверенно, напоминая мэтра или проповедника. — Смерть — об этом вам скажет любой врач — отнюдь не то, что совершается в одно мгновение. Мы умираем каждый день, каждый час. Это то, что нам присуще. Мы дозреваем до нее. Дорастаем. Я не имею в виду, что замирают биологические процессы. Меня интересует процесс, который измеряется моральными категориями. — Прелестно — ответил он. — Но учтите, с меня хватит расплывчатых бесед о морали. Мне вот что хотелось бы знать. Был у вас с ней разговор о том, чтобы вам уйти из монастыря? — Да — ответил Сикст. — Много раз. — И вы всегда говорили одно и то же? — настаивал он. — Я ощущал в то время — начал Сикст — удивительную двойственность. Я любил эту женщину. Я все более и более в ней нуждался. Все мои мысли были связаны с нею. И вместе с тем я чувствовал: нельзя нарушить монашеский обет. Смею вас уверить: это не была приверженность к удобствам, желание продлить предосудительную связь. Я ездил в Варшаву — мои поездки становились более частыми и более длительными, — и мы проводили все время вместе. Я был счастлив, и она, как я думаю, была счастлива тоже. И все-таки сколько она ни просила меня оставить монастырь, я каждый раз отвечал ей, что это невозможно. Она говорила, что нет оснований для опасения, будто мне не приспособиться к новой жизни. Она глубоко верила в то, что это возможно. Считала, что надо уехать куда-нибудь подальше. Туда, где никто не проникнет в нашу тайну. Я объяснял, что тут не проблема устройства новой жизни, что иные, более глубокие причины, уходящие корнями в данный мною когда-то обет, связывают меня навсегда с монастырем. Ей было не понять, как я могу существовать так. Если это вопрос веры — рассуждала она — то можно попробовать освободиться от обета. Можно поехать с этим даже в Рим, умолить папу римского. Наверно, она где-то это вычитала. Я просил, чтоб она об этом забыла. Как можно забыть о будущем? Я не знал, что на это ответить. «Может, мы оба — говорил я в отчаянии — не дозрели еще до решения?» — «Какого? — спрашивала она с гневом. — Разве мы не нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо прежде?» Мы нередко совершали долгие прогулки вдоль Вислы. Заканчивали их возле Цитадели[4]. Порой мне казалось: исполнение надежды на лучшую жизнь совсем близко, не дальше, чем тот берег, который виднеется за отмелями и деревцами, растущими у воды. Там, где зеленая, а затем синяя линия на горизонте. Надо лишь переплыть эту воду. — Долго ли мне ждать? — спрашивала она. И повторяла этот вопрос дома, в магазинах, куда мы заходили за покупками, в театре, куда она затащила меня впервые в жизни. Я умолял ее быть терпеливей. Знал, что она страдает, но и сам страдал. Возвращаясь в монастырь, я много часов проводил в пустом соборе. Перед закрытой пологом чудотворной иконой молился о ниспослании помощи. И ответа не получил. Я опасался разговора с опытным исповедником. Догадывался, что он может мне сказать, и не верил в пользу его советов. Может, я ошибался? Может, тут-то и надо было открыть свое сердце другому человеку? Все реже — даже тогда, когда я стоял, преклонив колени, в темном соборе перед единственной тлеющей красной лампадой, — я допускал мысль, что мы можем существовать врозь. В состоянии ли вы понять меня?.. — Вопрос, признаться, удивил его. Но во взгляде Сикста читалась мольба, ожидание помощи, которую он должен оказать. — Нет — ответил он. — Мне непонятны ваши сомнения. Вы нарушили данный вами обет. Не оставалось ничего иного, как объявить об этом факте. Вы стали бы свободным человеком. Могли бы жить честно. — Свободным? — повторил Сикст. — Разве обет можно нарушить? — Должно — ответил он не задумываясь. — Если вы апеллируете к нравственности. Однако вы струсили. — Это верно — согласился Сикст. — Но отвагу я понимаю по-другому, господин следователь. Я не отрекался от всевышнего, который меня отметил. — А было трудно снять обет? — спросил он. — Не знаю. Всерьез я никогда об этом не думал. — Выходит, вы предпочли обманывать других и даже украли сокровища из монастыря — продолжал он. — Втянули в грязное, безнравственное дело женщину, которая вас любила, за которую вы были в ответе… — Он хотел добавить: оскорбили господа, в которого верили, — но Сикст его перебил. — Я предпочел, господин следователь, взять все грехи на себя, но не хотел разрубать тех уз, которые были завязаны мною добровольно. Они были важнее. — И потому — взорвался он, не в силах сдерживать больше накопившийся гнев — выбрали преступление! — Сикст не спускал некоторое время с него взгляда, словно понимая, что следователь должен дать выход своему возмущению. Убежденный в несовершенстве санкций, какие изобрели люди, устанавливавшие нормы общественной жизни, он не желал — по-прежнему не желал — принять к сведению, что и высший, по его мнению, сверхчеловеческий закон, тоже является законом, созданным человеком. — Простите, мне не стоило говорить этого… — Отчего же, господин следователь — удивился Сикст. — Ладно, ладно — пробормотал он, убирая бумаги, среди которых были и выписки из прочитанных накануне писем — хотя они ему в этом разговоре не понадобились. — У меня сегодня дурной день… — Он посмотрел в окно. По небу плыли темные тучи. — Наверное, будет дождь… — И решил отказаться на ближайшие дни от разговоров с Сикстом. Материала накопилось достаточно. Надо хорошенько его проанализировать. Установить очередность дальнейших поисков, чтоб не затеряться в дебрях словесных излияний, монологов, каверзных — со стороны Сикста, о чудо! — вопросов и ответов. Была еще одна причина. Последнее время Сикст до такой степени разговорился, словно решил его доконать. В камере он не будет пускаться в разглагольствования. Наскучит надзирателям. Он попросил, чтобы из тюрьмы доставили Дамиана. Он уже наслышался о нем от здешнего следователя, который не раз его допрашивал. Несколько дней назад председатель со злостью заметил, что монаха придется выпустить, во время процесса он не будет находиться под стражей. Кто-то прибегнул вновь к давлению, и почти наверняка его придется освободить. Вошел высокий, видный мужчина. Может быть, более чем высокий. Широкий в плечах, с огромным животом, на который, сцепив пальцы, он положил свои руки. Облачен в белую сутану. Ему, по-видимому, разрешили носить монашеское одеяние. Дамиан прошел по кабинету твердым решительным шагом и, не ожидая разрешения, опустился на стул. — Я разговаривал со своими адвокатами — сразу заговорил он. — Мне сообщили, что следствие по моему делу завершено. Чего же от меня еще требуется?.. — Он ни словом не обмолвился об освобождении. Значит, его осторожные адвокаты не сообщили ему пока о такой возможности. — Вам сказали правду — ответил он. — Следствие по вашему делу завершено. Но не завершено следствие по делу ваших друзей. — О каких друзьях вы говорите? — перебил он бесцеремонно. — Не следует отрекаться от друзей в беде — улыбнулся он. — Вы отлично знаете, о ком я говорю… — Догадываюсь — процедил сквозь зубы Дамиан — вы имеете в виду Сикста. Но каких еще друзей вы собирались мне подсунуть? — Насколько мне известно — кроме вас — он подчеркнул это — другом Сикста был также Леон. Тот самый, который исчез после ограбления монастырской сокровищницы. Пока что мы его не отыскали, а у нас хорошие связи с криминальной полицией всей Европы. — Я попрошу! — воскликнул с раздражением Дамиан. — Леон никогда не был моим другом. — Друзья наших друзей… — начал он. — Вы что, пригласили меня сюда выслушивать афоризмы? — Дамиан нахмурился. — Отнюдь — и тут он постарался сосредоточиться. С чего начать? — размышлял он. — С показаний хозяйки тайного борделя, где бывал Дамиан? Для него это слишком большая неожиданность. Если сослаться на показания Сикста, очерняющие друга, Дамиан может вообще отказаться отвечать на вопросы. — Вам было известно, что находилось в диване, который Леон помог вывезти Сиксту из монастыря? — На этот вопрос я отвечал уже сто раз! — воскликнул Дамиан. — Я уже сообщал, что в это самое время я отправлял богослужение. Меня не было во дворе, и я не видал никакой выезжающей из монастыря пролетки. — Понятно — согласился он. — Когда же в таком случае вы узнали, что Сикст убил человека? — И об этом я говорил — выдавил Дамиан из себя со вздохом. Увы, он не мог отрицать, что знал об убийстве. Именно он, когда в монастыре впервые появилась полиция — после бегства Сикста и Леона — отправил по условленному адресу в Варшаву сообщение о том, что тучи сгущаются над головой. — Я уже говорил: отец Сикст явился ко мне в келью в тот вечер и сказал, что должен признаться в совершенном им страшном грехе. Это было на следующий день после того, как тело вывезли из монастыря. Я удивленно спросил, считать ли этот разговор исповедью, он ответил отрицательно. Сказал, что ему надлежит взвесить сначала все на весах совести и лишь потом он будет готов к исповеди. Я удивился еще больше и посоветовал ему отложить разговор до следующего дня, когда он немного успокоится. Я видел, как он взволнован. И тут он открыл мне то, что произошло в его келье накануне. Просил, чтоб я никому об этом пока не сообщал, потому что сам собирается поговорить с настоятелем. Сикст был моим другом. То, что я услышал, потрясло меня до глубины души. Я обещал молчать. Я поступил неправильно. Моим долгом было — не считаясь с тем, что нас связывает дружба, — немедленно известить об этом братию. Большой вред я нанес своим молчанием монастырю… — Какова была реакция Сикста? — перебил он Дамиана. — Так ведь можно — поморщился монах — зачитать соответствующее место из показаний, которые я подписал своим именем… — Отвечайте на вопросы! — ударил он кулаком по столу. Он уже не владел собою. И в ту же секунду пожалел об этом. Не стоило так горячиться. Не только ради интересов дела, но также из уважения к самому себе. Хотя наглость Дамиана превосходила все ожидания. — Господин следователь — начал монах, помолчав, голосом, в котором чувствовалось ледяное спокойствие — криком вы меня не испугаете. Все это можете оставить при себе. — Пожалуйста, не забывайте — перебил он вновь Дамиана — вам не дано право комментировать мои вопросы, ваша обязанность говорить правду. Если мое обращение к вам — как к гражданину — не дает результатов, я обращаюсь к вам как к духовной особе, чьим долгом, как мне известно, является правдивость всегда и во всем… — Дамиан улыбнулся, с явным

Повесть показывает острую классовую борьбу в Польше после ее освобождения от фашистских захватчиков. Эта борьба ведется и во вновь создаваемом Войске Польском, куда попадает часть враждебного социализму офицерства. Борьба с реакционным подпольем показана в остросюжетной форме.

Два убийства, совершенный Войцехом Трепой, разделены тридцатью годами, но их причина коренится в законах довоенной деревни: «Доля многих поколений готовила его к преступлениям». В молодости Трепа убил жениха сестры, который не получив в приданное клочка земли, бросил беременную женщину. Опасение быть разоблаченным толкнуло Трепу спустя годы на второе убийство.Эти преступления становятся предметом раздумий прокурора Анджея табора, от лица которого ведется повествование.
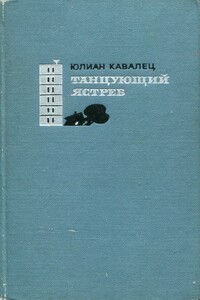
«…Ни о чем другом писать не могу». Это слова самого Юлиана Кавальца, автора предлагаемой советскому читателю серьезной и интересной книги. Но если бы он не сказал этих слов, мы бы сказали их за него, — так отчетливо выступает в его произведениях одна тема и страстная необходимость ее воплощения. Тема эта, или, вернее, проблема, или целый круг проблем, — польская деревня. Внимание автора в основном приковывает к себе деревня послевоенная, почти сегодняшняя, но всегда, помимо воли или сознательно, его острый, как скальпель, взгляд проникает глубже, — в прошлое деревни, а часто и в то, что идет из глубин веков и сознания, задавленного беспросветной нуждой, отчаянной борьбой за существование. «Там, в деревне, — заявляет Ю.

Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
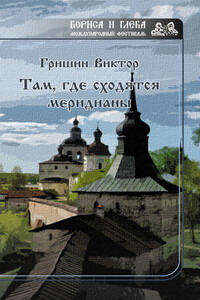
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.

Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия Быкова, ВДНХ Дмитрия Глуховского, «тучерез» в Гнездниковском переулке Марины Москвиной, Матвеевское (оно же Ближняя дача) Александра Архангельского, Рождественка Андрея Макаревича, Ордынка Сергея Шаргунова… У каждого своя история и своя Москва, но на пересечении узких переулков и шумных проспектов так легко найти место встречи!Все тексты написаны специально для этой книги.Книга иллюстрирована московскими акварелями Алёны Дергилёвой.

Этот сборник составлен из историй, присланных на конкурс «О любви…» в рамках проекта «Народная книга». Мы предложили поделиться воспоминаниями об этом чувстве в самом широком его понимании. Лучшие истории мы публикуем в настоящем издании.Также в книгу вошли рассказы о любви известных писателей, таких как Марина Степнова, Майя Кучерская, Наринэ Абгарян и др.
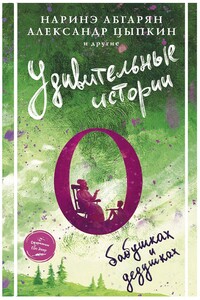
Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно — все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное — о любимых. О том, как признаются в любви при помощи классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. Удивительные истории.

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!