Сотворение мира - [29]

В танце можно станцевать жизнь.Особенно если танцовщица — пламенная испанка.У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий — наемный убийца, который покорил сердце современной Кармен.А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям — без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима…Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое — жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной, опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов — и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь — стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги — римейка бессмертного сюжета «Кармен».

Ультраправое движение на планете — не только русский экстрим. Но в России оно может принять непредсказуемые формы.Перед нами жесткая и ярко-жестокая фантасмагория, где бритые парни-скинхеды и богатые олигархи, новые мафиози и попы-расстриги, политические вожди и светские кокотки — персонажи огромной фрески, имя которой — ВРЕМЯ.Три брата, рожденные когда-то в советском концлагере, вырастают порознь: магнат Ефим, ультраправый Игорь (Ингвар Хайдер) и урод, «Гуинплен нашего времени» Чек.Суждена ли братьям встреча? Узнают ли они друг друга когда-нибудь?Суровый быт скинхедов в Подвале контрастирует с изысканным миром богачей, занимающихся сумасшедшим криминалом.
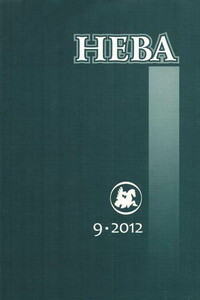
Название романа Елены Крюковой совпадает с названием признанного шедевра знаменитого итальянского скульптора ХХ века Джакомо Манцу (1908–1991), которому и посвящен роман, — «Вратами смерти» для собора Св. Петра в Риме (10 сцен-рельефов для одной из дверей храма, через которые обычно выходили похоронные процессии). Роман «Врата смерти» также состоит из рассказов-рельефов, объединенных одной темой — темой ухода, смерти.

Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

Где проходит грань между сумасшествием и гениальностью? Пациенты психиатрической больницы в одном из городов Советского Союза. Они имеют право на жизнь, любовь, свободу – или навек лишены его, потому, что они не такие, как все? А на дворе 1960-е годы. Еще у власти Никита Хрущев. И советская психиатрия каждый день встает перед сложностями, которым не может дать объяснения, лечения и оправдания.Роман Елены Крюковой о советской психбольнице – это крик души и тишина сердца, невыносимая боль и неубитая вера.
