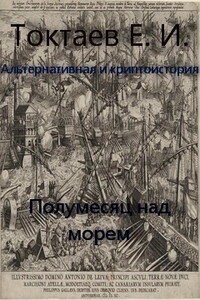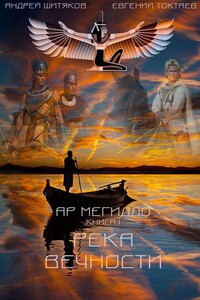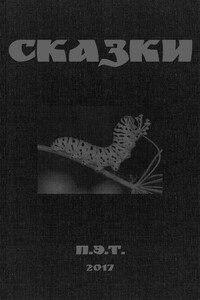Эгоспотамы же стремительно обрастали баснями, одна невероятнее другой.
— Мне служат многие чужеземцы. Эллины, иллирийцы, фракийцы. Я рад всем, кто хорошо служит.
Филипп предложил Каэтани прогуляться верхом. Вдвоём, если не считать семёрки соматофилаков, которые маячили поодаль. Отъехали подальше от лагеря. Стены Перинфа скрылись за холмами.
— Да, служат многие, — продолжал царь, — но, чтобы целое войско и флот пришли наниматься… Не знаю, что и думать.
— Не ищи подвоха, царь, — улыбнулся Каэтани, — или так и не поверил письму Антипатра?
— Антипе я верю, как себе, но всякий может быть обманут.
— У тебя Фокион. Афины падут к твоим ногам. Даже если упрутся сейчас, позже всё равно склонятся. Если бы не появился я, это случилось бы через два года у Херонеи в Беотии.
— Если бы… Теперь не случится? — Усмехнулся Филипп.
— Не знаю, — честно ответил Онорато, — всё уже пошло не так, как было. Пожалуй, как прорицатель я теперь бесполезен.
"Я знаю, как умрёт Филипп".
Он очень хотел отсрочить этот разговор. Долгие дни думал над тем, как его завести, что говорить, какими словами. И сомневался, непрерывно сомневался. Без устали молился, надеясь, что Господь пошлёт ответы, часами беседовал с братом Гвидо, которому симпатизировал всё больше, в отличие от отца Себастьяна. Искал путь, каждый день натыкаясь взглядом на Павсания, стоявшего на страже у царского шатра. К счастью, Демарат не напоминал об этом, да и у Филиппа имелось в избытке иных дел и вопросов.
О другом говорить было куда проще.
— Бесполезен? Так, стало быть, Перинф я так и не возьму, а следующим летом скифы угостят меня копьём в бедро?
— Трибаллы, царь. После того, как побьёшь скифов. Если пропустишь мои слова мимо ушей и захочешь испытать судьбу.
— Я прежде не слышал, чтобы Мойры распускали нить на две. И боги наши жребии не создают, они их лишь узнают прежде смертных.
— А я не слышал, чтобы кто-то из тех, кто верует в Христа, прежде беседовал с Филиппом Македонским.
Филипп хмыкнул. Эти слова ничего для него не значили, а вот многочисленные свидетельства о деле при Козьих ручьях оттягивали чашу весов несравнимо сильнее туманных намёков лжепрорицателя о будущем.
— Как я умру?
Онорато ждал этих слов с самого начала и всё же они прозвучали громом среди ясного неба. Умолчать невозможно, это разрушило бы фундамент ещё не выстроенного доверия.
— От кинжала убийцы, царь. Достигнув высшего могущества в Элладе.
Филипп некоторое время молчал, потом спросил:
— Когда?
— Сложно сказать, всё это не ясно. Примерно через четыре года. Это если бы не вмешались мы. Теперь будущее снова в тумане.
— Четыре года…
— Да, царь. Александр наследует тебе, когда ему будет двадцать.
— Александр… — Филипп повернулся к Онорато и спросил, — он продолжит то, что я начал?
И сам же себе ответил, взглянув всторону моря:
— Продолжит, без сомнения. Но он горяч, не свернул бы шею.
— О, нет! — воскликнул Каэтани.
— Ты знаешь и его судьбу?
— Я знаю то, что могло стать его судьбой. Станет ли теперь — не знаю.
— Ты откроешь мне его судьбу, Онорато. И мою. Со всеми известными тебе подробностями, — голос Филиппа стал ниже, чем обычно, — от этого зависит, как я буду относиться к тебе и твоим людям. Я хочу знать — кто.
Онорато покусал губу. Он чувствовал себя сидящим на сковороде. И от таких мыслей не мог отделаться уже давно.
— А если я… откажу тебе, царь?
— Некоторые мне пытались отказать, — пожал плечами Филипп, — и где они? Сейчас вы все в моей власти и чудо-оружие вас не спасёт.
— Возможно… — буркнул Каэтани, — но я и не собирался ничего укрывать от тебя, царь. Однако, всё же осмелюсь поставить условие.
Филипп придержал коня и удивлённо заломил бровь.
— То, что я расскажу тебе, должен услышать и Александр. Вашу судьбу вы должны узнать вместе. Поверь, царь, тому есть причины. Знание, полученное порознь, губительно для вас обоих.
Филипп долго молчал и, почти не мигая, жёг взглядом герцога. Тог глаз не отводил, но поводья стиснул так, что костяшки пальцев побелели.
Наконец, царь коротко кивнул, и толкнул бока коня пятками, пустив вскач. К лагерю.
Царь присматривался дней пять, совещался с друзьями, и, наконец, объявил войску, что эти испанские варвары теперь подданные Македонии и за услугу их — ровня македонянам. Каэтани ждал недовольства, помнил, как эти самые люди через десяток лет будут смотреть на обласканных персов.
"Любит наш царь варваров".
И кое-какой ропоток пробежал, однако Парменион быстро пресёк его.
— Чего заныли? В чём вас ущемили? В царских "друзьях" едва не половина — чужеземцы. Чего на них не ропщите? Или тоже ревнуете? Так будьте лучше! Вон, Демарат, и в войске-то не служит, гостеприимец всего лишь. А какую услугу оказал? Или не заслужил?
Поутихли. Погодя и Каэтани успокоился. Тем более, что вскорости узнал — зовут его за глаза "Нашим варваром". Честь, которой даже князья пеонов и агриан не удостоились. Впрочем, как раз они варварами считаться не желали, переоделись в эллинское сами, отпрыскам давали эллинские имена и завозили учителей-эллинов.
Демарат, посмеиваясь, сказал, что, мол, хотели прозвать Астрапеем, да ревности Зевса побоялись.