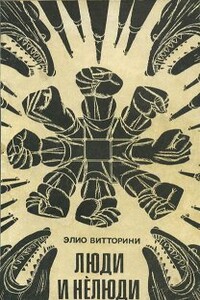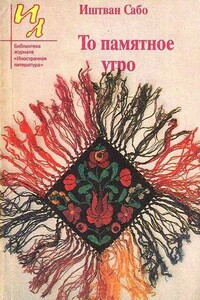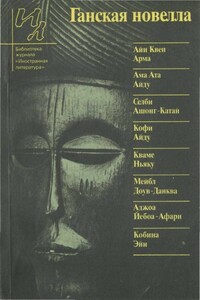— А что тут особенного? — ответила мать. — Я и здесь, у нас, вижу столько народу без пальто, в изодранном платье и рваных башмаках…
— Верно, — сказал я. — Но он китаец, нашего языка не знает и не может ни с кем поговорить, даже посмеяться не может — только странствует среди нас со своими бусами и галстуками, со своими поясами — без хлеба, без денег, потому что он никогда ничего не продает, и без надежды. Что ты думаешь о нем, когда видишь, какой он — этот нищий китаец без всякой надежды?
— О, — ответила мать. — Я и здесь, у нас, вижу много таких же точно… Нищих сицилийцев без всякой надежды…
— Знаю, — сказал я. — Но он-то китаец, у него желтое лицо, косые глаза, расплющенный нос, выпирающие скулы, может быть, от него воняет. У него еще больше нет надежды, чем у остальных. Не может быть надежды. Что ты о нем думаешь?
— О! — ответила мать. — Есть много и не китайцев, с желтым лицом, расплющенным носом и таких бедных, что от них, может быть, воняет. Они не китайские, они сицилийские бедняки, и все-таки у них нет никакой надежды.
— Но подумай, — сказал я. — Он — бедный китаец здесь, в Сицилии, а не в Китае, и не может даже поговорить о погоде с какой-нибудь женщиной. А сицилийский бедняк может…
— А почему китайский не может? — спросила мать.
— А потому, — сказал я. — По-моему, ни одна женщина ничего не дала бы нищему бродяге, если бы он был не сицилиец, а китаец.
Мать нахмурилась. — Не знаю, — сказала она.
— Видишь, — воскликнул я. — Китайский бедняк — самый бедный из всех. Что же ты о нем думаешь?
Мать разозлилась: — Ну его к черту, твоего китайца!
А я воскликнул: — Видишь? Он беднее всех бедняков, а ты посылаешь его к черту! А вот если ты пошлешь его к черту, а потом подумаешь о том, что он так беден в мире, и лишен надежды, и его еще посылают к черту, — тебе не кажется, что он и есть больше всех человек, больше всех род людской?
Мать посмотрела на меня с прежней злостью.
— Китаец? — спросила она.
— Китаец, — сказал я. — Или сицилийский бедняк, больной, в постели, вроде тех, которым ты делаешь уколы. Разве он не больше всех человек, не больше всех род людской?
— Он? — сказала мать. — Да, он, — сказал я.
И мать спросила: — Больше чем кто? — Я ответил: — Чем все другие. Он ведь лежит в постели… Страдает… — Страдает? — воскликнула мать. — Но ведь это болезнь.
— Всего-навсего?
— Не будет болезни — и все пройдет. Это болезнь и больше ничего.
Тогда я спросил: — А если он голоден и страдает, что это такое? — Просто голод, — сказала мать. — Всего-навсего?
— А как же? Дай ему поесть — и все пройдет. Это голод.
Я покачал головой: от матери невозможно было добиться странных ответов, и все-таки я спросил: — А китаец?
Мать на этот раз не ответила мне, ни странно, ни просто, а только пожала плечами. Конечно, она была права; избавьте больного от болезни — и горя не будет; накормите голодного — и горя не будет. Но человек, когда он болен, — что он такое? Или когда голодает?
Разве голод — это не все горе мира, превратившееся в голод? Разве человек, голодая, не становится еще больше человеком? Еще больше — родом людским? А китаец?..
Мы больше не спускались под гору вдоль домов, мы поднимались другой стороной — из глубины долины вверх, к солнцу и к музыке волынок, превратившейся в облако или в снег.
— Ты когда-нибудь болела? — спросил я у матери. — Один раз, — ответила мать. — Что это было? — спросил я.
— Не знаю, — ответила мать. — Доктора я не захотела и не знаю, что это было… Я сама поправилась.
— Сама поправилась? — сказал я. — Право, ты особенный человек!
— Особенный? — воскликнула мать. — Почему особенный?
— Ты, наверно, — ответил я, — думала, что ты не такая, как все. Разве не так? — Ничего я не думала, — сказала мать.
— А отец когда-нибудь болел?
— Еще бы! — ответила мать. — Все время болел. У него ведь малярия. — Вот что! — сказал я. — И отец хотел доктора.
И мать сказала: — Еще бы! Он был как ребенок. У него начинался озноб, высокая температура, ясно было, что это малярия, а он все равно хотел доктора.
А я сказал: — Папа был человек смиренный. А мать сказала: — Просто он боялся. А я: — Он был человек смиренный.
Я немного устал, улица шла в гору, в этом месте с одной стороны тянулась стенка, и я о нее оперся. Я бросился в путешествие из моего покоя безнадежности и все еще путешествовал, мое путешествие было и беседой, и настоящим, и прошлым, и памятью, и фантазией, не жизнью ради себя, а движением, и я оперся о стенку и стал думать об отце, усталом и голубоглазом, уже не Макбете, не короле.
Когда он болел, его отягощало все горе мира, он смирялся с тем, что он не Макбет, и хотел врача, просил врача, желал выздороветь, был как ребенок.
Когда человек бывает как ребенок, больше ли он человек? Он смиренно принимает свое несчастье и в несчастье кричит. Больше ли он тогда род человеческий?
— В сущности, он был человек смиренный, — повторил я. Потом посмотрел на мать и убрал руку со стенки.
— А дедушка болел? — спросил я. — Сильно болел, — ответила мать. — Как? — воскликнул я. — И он тоже? — Что же тут такого? — сказала мать. — Ему было под сорок, а мне лет шесть-семь. — Он-то, наверно, не хотел доктора, — сказал я.