Семейное дело - [141]
И, подписав открепительный талон, протянул Алексею.
— Ну, будь здоров и держи нашу заводскую марку.
Внизу были пески и ничего кроме песков — этих застывших желто-серых волн, — и, когда показалась зелень садов, светлая, обожженная солнцем, Нечаев не выдержал и крикнул Заостровцеву:
— Может, мираж, а? Знаете, есть смешная байка о том, как один предприимчивый торговец решил поставить в пустыне ларек «пиво-воды» и прогорел: все принимали его за мираж и проходили мимо.
Заостровцев нехотя улыбнулся.
Все это время, что они пробыли в Москве, и весь долгий перелет с несколькими посадками, от которых ломило уши, и сейчас, когда они летели на неуютном, тарахтящем и тряском АН-2, а сбоку, словно прыгая с бархана на бархан, бежала тень их самолета, — все это время Заостровцева не покидало неприятное ощущение, будто Нечаев присматривается к нему с каким-то недоверием. Будто до сих пор они вообще не были знакомы. Время от времени Нечаев как бы вскользь задавал Заостровцеву вопросы вроде: «Сколько ушло на сверхурочные в первом квартале?» или: «Когда отгрузили пять воздуходувок в марте, не помните?» Заостровцев не помнил. «А почему вас это интересует?» Нечаев быстро взглядывал на него и отворачивался. Странное поведение, странные вопросы… К тому же Заостровцев чувствовал, что Нечаев нервничает и не может скрыть этого.
А Нечаев неотвязно думал о том, знает ли Заостровцев о той приписке или нет, или догадывается, но молчит по своему обыкновению?
Самолет уже шел на посадку.
И едва второй пилот открыл дверь, в машину начала наливаться жара. Она сразу хлынула в легкие, и каждому, кто сидел в самолете, перехватило горло.
Едва Нечаев спустился на плотно укатанную площадку, его обожгло зноем. Он поднял голову — небо было белесым, будто выгоревшим от солнца. А он не захватил с собой даже кепки. Впрочем, Заостровцев тоже ничего не захватил с собой и сейчас, прежде чем ступить под это беспощадное солнце, торопливо вязал узлы на концах носового платка. Так он и спустился по трапу — с носовым платком на голове, концы которого торчали, как рожки у чертика.
Их встретил маленький, черный от загара человек — главный инженер станции, который, пожимая руки, отчетливо называл свою фамилию, будто заранее зная, что ее не сразу запомнят: Казанзакис. Поначалу Нечаев подумал — литовец, потом ему сказали — грек. Казанзакис сел со всеми в автобус и, стоя возле шофера, как гид, ведущий экскурсию, объяснял, что сейчас все поедут в местную гостиницу, устроятся, освоятся с этой жарой, а работать лучше всего начать вечером, когда жара немного спадет. Кто-то иронически спросил: «Немного?» Казанзакис кивнул: да, градусов на пять-шесть, ну а сейчас тридцать восемь, так что вечером будет все-таки полегче.
Гостиница была маленькая, двухэтажная, и тоже раскаленная солнцем. Никакого душа. С водой здесь еще плохо, объяснил Казанзакис. Рослая, полная молодая женщина, очевидно директор этой гостиницы, каким-то чутьем определив, кто среди гостей главный, отнесла в номер Свиридова несколько бутылок минеральной воды, остальным не хватило. Нечаев усмехнулся, разбирая в своем номере туго набитый портфель: ай да красотка! Все знает, все понимает! А мы с вами, Виталий Евгеньевич, мы сошка поменьше, мы и из-под крана можем…
Вода из крана шла теплая и солоноватая.
Заостровцев изнывал от этой страшной жары. О том, чтобы выйти сейчас на улицу хотя бы до ближайшего магазина, не могло быть и речи. Он разделся до трусиков — и вдруг оказался совсем щупленьким, с редкими волосами на впалой груди, тоненькими, словно начисто лишенными мышц, руками и ногами. Ему было худо. Он сказал Нечаеву, что ляжет и будет лежать до вечера. В его глазах стояла тоска. Он не представлял себе, как сможет подняться и поехать на станцию.
Нечаев разыскал Казанзакиса и сказал, что хотел бы поехать сразу, сейчас. Тот удивился: зачем? Да и автобус уже ушел, а шагать восемь километров по такой жаре даже он, человек привычный, не рискнул бы, пожалуй. Пришлось Нечаеву вернуться в номер и тоже лечь. Спать ему не хотелось. Он отоспался в Москве, пока собиралась комиссия.
Вдруг Заостровцев, который лежал с закрытыми глазами и, казалось, дремал, спросил его:
— С вами что-то происходит, по-моему. Я всегда знал вас как человека совершенно спокойного. Или нервничаете перед приемкой?
— Нет, — ответил Нечаев. — Со мной-то ничего не происходит.
— С кем же?
— С директором, например.
Заостровцева это объяснение не удовлетворило. «Конечно, он прекрасно понимает, что я чего-то недоговариваю», — подумал Нечаев. Но он чувствовал, что и Заостровцева что-то мучает — не эта недоговоренность, а нечто свое, чем он еще, возможно, опасается поделиться.
— Странный он все-таки человек, — задумчиво сказал Заостровцев. — Иногда я любуюсь им, иногда мне хочется кричать на него, иногда просто ненавижу… Вы хотите сказать, что это не его странность, а моя? — повернулся он к Нечаеву.
— Нет, — улыбнулся Нечаев. — Я хочу сказать, что у нас с вами никогда не было домашнего разговора.
Его удивило, что Заостровцев разговорился. Казалось бы, на такой жаре даже мысли тяжелеют и ворочаются медленнее, — а вот поди ж ты! — Заостровцев, молчальник Заостровцев вдруг начал говорить!

Закрученный сюжет с коварными и хитрыми шпионами, и противостоящими им сотрудниками советской контрразведки. Художник Аркадий Александрович Лурье.

Повесть «Твердый сплав» является одной из редких книг советской приключенческой литературы, в жанре «шпионский детектив». Закрученный сюжет с погонями и перестрелками, коварными и хитрыми шпионами, пытающимся похитить секрет научного открытия советского ученого и противостоящими им бдительными контрразведчиками…
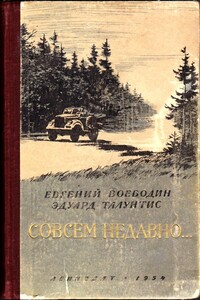
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В творчестве известного ленинградского прозаика Евгения Воеводина особое место занимает военно-патриотическая тема. Широкое признание читателей получили его повести и рассказы о советских пограничниках. Писатель создал целую галерею полнокровных образов, ему удалось передать напряжение границы, где каждую минуту могут прогреметь настоящие выстрелы. В однотомник вошли три повести: «Такая жаркая весна», «Крыши наших домов» и «Татьянин день».

Имя рано ушедшего из жизни Евгения Воеводина (1928—1981) хорошо известно читателям. Он автор многих произведений о наших современниках, людях разных возрастов и профессий. Немало работ писателя получило вторую жизнь на телевидении и в кино.Героиня заглавной повести «Эта сильная слабая женщина» инженер-металловед, работает в Институте физики металлов Академии наук. Как в повести, так и в рассказах, и в очерках автор ставит нравственные проблемы в тесной связи с проблемами производственными, которые определяют отношение героев к своему гражданскому долгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
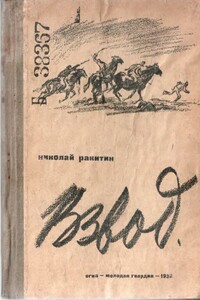
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь и творчество В. В. Павчинского неразрывно связаны с Дальним Востоком.В 1959 году в Хабаровске вышел его роман «Пламенем сердца», и после опубликования своего произведения автор продолжал работать над ним. Роман «Орлиное Гнездо» — новое, переработанное издание книги «Пламенем сердца».Тема романа — история «Орлиного Гнезда», города Владивостока, жизнь и борьба дальневосточного рабочего класса. Действие романа охватывает большой промежуток времени, почти столетие: писатель рассказывает о нескольких поколениях рабочей семьи Калитаевых, крестьянской семье Лободы, о семье интеллигентов Изместьевых, о богачах Дерябиных и Шмякиных, о сложных переплетениях их судеб.

В книгу вошли ранее издававшиеся повести Радия Погодина — «Мост», «Боль», «Дверь». Статья о творчестве Радия Погодина написана кандидатом филологических наук Игорем Смольниковым.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Федорович Буданцев (1896–1939) — советский писатель, автор нескольких сборников рассказов, повестей и пьес. Репрессирован в 1939 году.Предлагаемый роман «Саранча» — остросюжетное произведение о событиях в Средней Азии.В сборник входят также рассказы С. Буданцева о Востоке — «Форпост Индии», «Лунный месяц Рамазан», «Жена»; о работе угрозыска — «Таракан», «Неравный брак»; о героях Гражданской войны — «Школа мужественных», «Боевая подруга».
