Селестина - [10]
Пармено, Калисто, Мелибея, Семпронио, Селестина, Элисия, Крито.
К а л и с т о. Здесь, Мелибея, открылось мне величие бога.
М е л и б е я. Почему, Калисто?
К а л и с т о. Потому что он позволил природе наделить тебя совершенной красотой, а мне, недостойному, даровал счастье увидеть тебя в столь подходящем месте, где я могу открыть тебе мое тайное страдание. Без сомнения, милость его безмерно превосходит все мое служение ему, все пожертвования, молитвы и добрые дела, кои совершал я в угоду небу, дабы проникнуть сюда. Кому в сем мире дано увидеть человека, вознесенного живым на небо, как это сталось со мной? Поистине, блаженные святые, упиваясь лицезрением божества, не наслаждаются более, чем я сейчас, созерцая тебя. Но увы! Есть между нами различие — ибо они безмятежно ликуют, не ведая страха потерять свое счастье, а я — смесь духа и плоти — радуюсь и вместе с тем страшусь суровых терзаний, которые принесет мне разлука с тобой.
М е л и б е я. И это для тебя, Калисто, такое счастье?
К а л и с т о. Такое, что если бы господь дал мне в раю место превыше всех святых, я не испытал бы подобного восторга.
М е л и б е я. Еще большую награду получишь ты от меня, если и впредь будешь так настойчив.
К а л и с т о. О счастливый мой слух, ты недостоин слов, которым внимаешь.
М е л и б е я. Скорее несчастный от того, что ты сейчас услышишь, ибо расплата будет лютой в меру твоей безумной дерзости. Твой нрав породил твои намерения, Калисто, но они бессильны перед моей добродетелью. Прочь! Прочь отсюда, распутник! Мне нестерпима мысль, что человеческим сердцем овладело желание разделить со мною свою бесчестную страсть!
К а л и с т о. Ухожу, как тот, кого враждебная судьба упорно преследует с жестокой ненавистью.
К а л и с т о. Семпронио, Семпронио, Семпронио! Где он, проклятый?
С е м п р о н и о. Я здесь, сеньор, чищу лошадей.
К а л и с т о. Отчего же ты идешь из комнаты?
С е м п р о н и о. Да тут кречет слетел с жерди, вот я и пришел посадить его на место.
К а л и с т о. Чтоб тебя черт побрал! Чтоб тебе погибнуть от злой беды или испытать вечную и нестерпимую муку, неизмеримо худшую, чем жестокая и неотвратимая смерть, которой я ожидаю! Ступай, ступай, злодей! Отвори комнату и приготовь постель.
С е м п р о н и о. Сеньор, мигом!
К а л и с т о. Закрой окно; пусть мрак сопутствует скорбящему и слепота — несчастному. Мои печальные мысли недостойны света. О смерть, сколь блаженна ты, когда посещаешь жаждущих тебя страдальцев! О врачи Гиппократ и Гален, если бы вы явились теперь, распознали бы вы мой недуг? О небесное милосердие, снизойди в сердце дочери Плеберио, дабы не прогнала она погибший дух мой, лишив его надежды на спасение, вослед несчастному Пираму и злополучной Фисбе[12].
С е м п р о н и о. А что случилось?
К а л и с т о. Уйди отсюда! Не смей говорить со мной, не то погибнешь от моей руки раньше, чем придет моя лютая смерть.
С е м п р о н и о. Уйду, раз тебе угодно мучиться в одиночестве.
К а л и с т о. Иди ты к черту!
С е м п р о н и о. Вряд ли я застану его, ведь он теперь с тобой. Вот беда! Вот нежданная напасть! Какое злоключение так быстро лишило этого человека веселого нрава и, что еще хуже, рассудка? Оставить его одного или войти? Если я его оставлю, он убьет себя. Если войду — он убьет меня. Пусть себе остается — не моя забота. Пусть умирает тот, кому жизнь постыла, но не тот, кому она мила. Если бы даже я дорожил жизнью только затем, чтобы видеть мою Элисию, мне и то надо бы остерегаться опасностей. Но ведь если он покончит с собою, я окажусь единственным свидетелем, и мне придется за него отвечать. Пожалуй, войду. Да, но если я и войду, он все равно не выслушает ни утешений, ни советов. Нежелание выздороветь — верный предвестник смерти. Притом дам-ка я ему немного поутихнуть да созреть: опасно, говорят, вскрывать или выдавливать незрелые нарывы, они тогда еще хуже воспаляются. Подожду еще. Пусть плачет тот, кто горюет. Слезы да вздохи смягчают страдающее сердце. К тому же, если он увидит меня, он еще пуще разъярится. Солнечный луч горит всего ярче там, где отражается. Взгляд, блуждая без цели, быстро устает, а когда цель близка, становится острее. А потому я лучше выжду. Если он покончит с собою, пускай умирает. Может, мне под шумок кое-что и Достанется и я поправлю свои дела. Все же это дурно — ждать прибыли от чужой смерти. Как знать, не смущает ли меня дьявол? А вдруг, коли он умрет, казнят и меня и потянется за ведром веревочка? С другой стороны, как говорят мудрецы, горевать легче, если есть с кем поделиться, а скрытая рана всего опаснее. Уж лучше войти и все стерпеть, раз я не смею решиться ни на то, ни на другое. Можно, конечно, выздороветь без врачебного искусства и лекарства, а все же лечение не помешает.
К а л и с т о. Семпронио!
С е м п р о н и о. Сеньор!
К а л и с т о. Подай мне лютню.
С е м п р о н и о. Вот она, сеньор.
К а л и с т о. Есть ли в мире боль сильней Страстной горести моей?
С е м п р о н и о. Эта лютня расстроена.
К а л и с т о. Как настроит ее тот, кто сам расстроен? Как может почувствовать гармонию тот, кто в разладе с самим собой? Тот, в ком воля не подчинена рассудку? Чью грудь терзает мир, война, перемирие, любовь, вражда, обиды, грех, подозрения, все по одной и той же причине? Но сыграй и спой мне самую грустную песню, какую только знаешь.

В стихах, предпосланных первому собранию сочинений Шекспира, вышедшему в свет в 1623 году, знаменитый английский драматург Бен Джонсон сказал: "Он принадлежит не одному веку, но всем временам" Слова эти, прозвучавшие через семь лет после смерти великого творца "Гамлета" и "Короля Лира", оказались пророческими. В истории театра нового времени не было и нет фигуры крупнее Шекспира. Конечно, не следует думать, что все остальные писатели того времени были лишь блеклыми копиями великого драматурга и что их творения лишь занимают отведенное им место на книжной полке, уже давно не интересуя читателей и театральных зрителей.

Древнеисландская сага о древних временах, сложенная в XIII в.© Перевод с древнеисландского, примечания: Тимофей Ермолаев (Стридманн)Редакция перевода, примечания: Надежда Топчий (Традис).Оформление обложки: Анна Ермолаева.
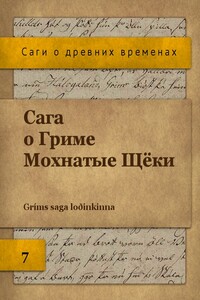
Вторая из так называемых «саг о людях с Хравнисты», написанная в XIV веке, события которой происходят в Норвегии в VIII веке.

В том вошли лучшие образцы древнескандинавской литературы эпохи викингов — избранные песни о богах и героях «Старшей Эдды», поэзия скальдов, саги и пряди об исландцах, отрывок из «Младшей Эдды». Издание снабжено комментариями.
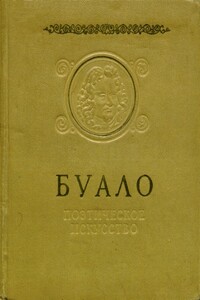
Знаменитый поэтический манифест в стихах крупнейшего теоретика французского классицизма, включающий критику на основные направления литературы XVIII в. и теорию классицизма. В приложениях: «Послание Расину», «Герои из романов», «Письмо господину Перро».
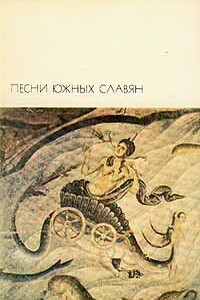
Южными славянами называют народы, населяющие Балканский полуостров, — болгар, македонцев, сербов, хорватов, словенцев. Духовный мир южнославянских народов, их представления о жизни и смерти, о мире. в котором они живут, обычаи, различные исторические события нашли отражение в народном творчестве. Южнославянская народная поэзия богата и разнообразна в жанровом отношении. Наряду с песнями, балладами, легендами, существующими в фольклоре других славянских народов, она включает и оригинальные, самобытные образцы устного творчества.В сборник вошли:Мифологические песни.Юнацкие песни.Гайдуцкие песни.Баллады.Перевод Н.Заболоцкого, Д.Самойлова, Б.Слуцкого, П.Эрастова, А.Пушкина, А.Ахматовой, В.Потаповой и др.Вступительная статья, составление и примечания Ю.Смирнова.