Сакалиба - [9]
понятие сакалиба близко по своему употреблению к понятию <евнух>. Все они относятся
к Андалусии. В Андалусию поступали, как мы увидим при рассмотрении истории
работорговли, почти исключительно евнухи-солшыбя; поэтому, говоря о сакалиба в
кордовском дворце, мусульманские авторы замечали, что речь идет о евнухах. При этом
они, как мы пытались показать, не отождествляли понятия саклаби и <евнух>. В Магриб, Египет и Машрик доставлялись и оскопленные, и неоскопленные рабы-сакашба; в
источниках по истории этих регионов мы не найдем ни единого примера того, чтобы слово
сакалиба приобрело значение <евнухи> или <рабы>.
Здесь уместна одна оговорка. Выведенная закономерность носит общий характер. Но есть
несколько случаев, когда восточные авторы просто ошибаются. Так, Ибн 'Изари сообщает, что <вожди 'амиридских сакалиба> покинули в 1009 г. хаджиба" 'Абд ар-Рахмана
<Санчуэло>, а затем сообщает, что халиф ал-Махди выспал из Кордовы <группу
'амиридских сакалиба>, которые затем установили свою власть во многих городах востока
Андалусии [261, с. 71 и 76 соотв.]. В обоих случаях правильность употребления термина
сакалиба вызывает большие сомнения, так как контекст показывает, что речь идет не о
сакалиба, а скорее об 'амиридских слугах и клиентах в целом. Ибн 'Изари после указанных
фрагментов и сам прекращает называть этих людей сакалиба 'амириййун и именует их
'абид 'амириййун. В то же время среди слуг, изменивших хаджибу 'Абд ар-Рахману и
высланных ал-Махди из Кордовы, были и сакалиба. Сходным образом Хилал ас-Саби'
(969- 1056) пишет, что при дворе 'аббасидского халифа ал-Муктадира (908- 932) было
четыре тысячи белых евнухов-еакадабй [103, с. 8], но эта фраза, как показано ниже (см.: часть III, гл. 4), возникла как результат механической компиляции двух разных рассказов.
Поэтому, встречая у средневековых авторов термин сакалиба, мы обязательно должны
анализировать контекст, в котором он употребляется.
Таким образом, сакалиба в исламском мире предстают как люди, принадлежащие к
<народу сакалиба>. Это наблюдение ставит перед нами задачу выяснить, что
подразумевали восточные авторы под <народом сакалиба>. С изучения этого вопроса и
начнется настоящее исследование.
Примечания
1 О том, что для Касири сакалиба были выходцами с Балканского полуострова,
свидетельствуют также его переводы этого названия - Illyri, Esclavones и Dalmatae [56, т. 2, с. 206, 216].
2 Показателен в этом отношении эпизод с Хубасой Ибн Максаном, берберским
военачальником, погибшим при осаде Кордовы весной 1012 г. (об этих событиях см.: часть
III, гл. 2). Хубаса был убит в стычке с защищавшими город вольноотпущенниками
'Амиридов (основанная ал-Мансуром династия хаджибов, фактически правившая
Андалусией в 978-1009 гг., см.: часть III, гл. 2), причем первый улар, по свидетельству Ибн
Хаййана, нанес ему некий ан-Набих Христианин (ан-Насра-ни) [199, т. 1, с. 494]. Этот
эпизод Дози привлекал в доказательство того, что <под именем славян разумелись также
христиане севера Испании, служившие в войске мусульман> [455, т. 3, с. 260, прим. 3]. Но
в цитате из Ибн Хаййана у Ибн ал-Хатиба, на которую ссылается Дози, слов сакалиба или
саклаби нет, и потому отнесение ан-Набиха к сакалиба безосновательно и неправомерно
(см.: часть Ш, гл. 2, прим. 30). Сходным образом Дози причислял к сакалиба Наджду, слугу кордовского халифа 'Абд ар-Рахмана III (912-961), участвовавшего в походе на Леон
в 939 г. [455, т. 3, с. 61]. Между тем в источниках Наджда именуется ал-Хири, а не ас-
Саклаби [230, с. 137]. Э.Леви-Провансаль с полным основанием поправляет здесь Дози, указывая, что Наджда никогда не принадлежал к числу сакалиба [522, т. 2, с. 56, прим. 1].
J Дози ссылался на примеры, приводимые в тексте под номерами 1 и 6.
4 Среди неъопытков-сакалиба, упоминание о которых мы встречаем в источниках,
обнаруживаются как рабы, так и вольноотпущенники, причем определить статус того или
иного человека часто невозможно. Вследствие этого в дальнейшем изложении будет
использоваться более общий термин - слути-сакалиба (ед. спуга-саклаби).
5 На сходных позициях стояла и Х.Кепштайн, также занимавшаяся исследованием вопроса
исторической эволюции слова <славянин> [509, с. 77-78].
6 Слово гулам (мн. гилман) - первый встреченный нами по ходу настоящего изложения
термин для обозначения слуги. Исходно оно обозначало юношу, сохранив это значение до
настоящего времени. В то же время в средневековых источниках понятие гулам часто
применяется к рабам и слугам, причем выбор его значения всегда определяется
контекстом. Точно так же развивались и слова фата (мн. фитйан) - юноша и слуга, и
джарийа (мн. джавари) - девушка и служанка, часто наложница. Разница в употреблении
этих понятий заключается в том, что если слово гилман употреблялось главным образом в
Египте и Маш-рике, то понятие фата преобладало в Магрибе и Андалусии.
1 Валам йабка ма'а-ху илла арба'ат гилман ла-ху ахаду-хум фахя ва ас-саласа саклаб. В
данном фрагменте, известном нам в цитате у Ибн Бассама, Ибн Хаййан повествует о
свержении Хишама ал-Му'тадда (1027-1031) - последнего омейядского халифа
мусульманской Испании. Под <ним> в отрывке подразумевается ал-Му'тадд.
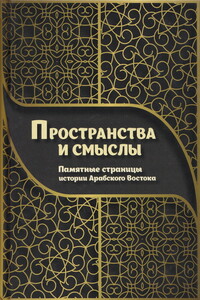
Монография представляет собой очерк ряда ярких и одновременно слабо изученных эпизодов многовековой истории Арабского Востока. При том, что на страницах монографии дана широкая панорама истории арабов в эпоху Античности, Средние века и Новое время, основным центром притяжения авторского внимания является проблема пространств в арабо-мусульманской истории. Как воспринимали арабов античные авторы и что мы знаем о структуре, перемещениях и свершениях арабских племён доисламской поры, как описывали арабские авторы земли, лежавшие за пределами Дар ал-ислам, и как воспринимали пришедших оттуда чужаков, как в арабской географической литературе сочетались реальные знания и мифологизированные представления, как сосуществовали номадическое и городское пространства на мусульманском Западе и как структурировалось пространство мечетей ал-Андалуса, как выстраивались социальные и смысловые пространства арабского мира в позднее Средневековье и в Новое время — все эти вопросы рассматриваются авторами монографии на материале конкретных исторических казусов.
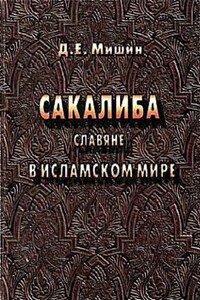
сакалиба исламской литературы — бывшие воины славянских контингентов византийских армий, перешедшие в ходе боев в Малой Азии на сторону мусульман, а также невольники славянского происхождения, привезенные на Восток из славяно-германского региона, Чехии, русских земель, с Балкан. Каждая из этих групп имеет свою историю. Предпринятое в работе комплексное изучение средневековых восточных и западных материалов дало возможность установить общие закономерности истории сакалиба, а также сделать ряд наблюдений относительно истории исламского мира, Европы, Руси.
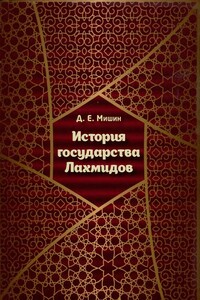
Настоящая работа представляет собой попытку реконструкции истории государства Лахмидов, существовавшего в период со второй половины III по начало VII вв. в юго-западной части современного Ирака. Правители Лахмидской династии обладали властью над рядом арабских племен, в том числе и живших в Аравии, но в то же время подчинялись царям Сасанидской державы и служили им как наместники. В работе представлена политическая история Лахмидского государства, сделаны наблюдения и обобщения относительно его развития.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину происходившего на Балканах в конце прошлого века комплексно, обращая внимание также на причины и последствия событий 1999 г. В монографии повествуется об истории возникновения «албанского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток кризиса в Косове в 1997–1998 гг., ставший предвестником агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта — июня 1999 г. посвящена отдельная глава.
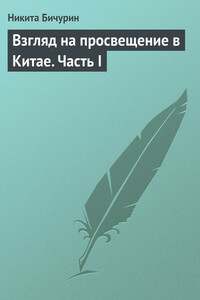
«Кругъ просвещенія въ Китае ограниченъ тесными пределами. Онъ объемлетъ только четыре рода Ученыхъ Заведеній, более или менее сложные. Это суть: Училища – часть наиболее сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ, соответствующая Академіямъ Наукъ въ Европе…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.