Сакалиба - [10]
8 Определить, о каком острове идет речь, практически невозможно, ибо сам аз-Зухри имел
о нем лишь очень приблизительное понятие. В данном фрагменте С.какин (по другому
написанию - С.канин) - один из островов Индийского моря (Бахр ас-Синд), но несколько
ранее автор помещает его на самый край света, за сказочным островом Бак Вак [133, с.
295]. Между тем прототипом мифического С.какипа был, скорее всего, какой-нибудь из
островов Красного моря или, может быть, Сокотра, где арабские пираты устроили себе
опорный пункт.
' Т.Левицкий ссылается здесь на рукопись № 271, хранящуюся в Лейдене и недоступную
мне.
10 О значении слова фитйан (ед. фата) см. прим. 6.
" Перевод <слуги> условен, ибо в арабском тексте стоит хадам, а это слово, как показал Д.
Аялон, в средние века часто обозначало евнухов [412; 413].
13 Обычное значение термина васиф - слуга, но в источниках по истории мусульманской
Испании он обозначает и евнуха. У Ибн Хаййана, например, мы читаем: <...что со мной?
Вижу я тебя без скопца-васифа, стоящего с тобой рядом и охраняющего тебя...>[ 117, с.
40]. Хотя временами вусафа путают с сакалиба, по-видимому, как евнухов (см. напр.: 117, с. 4, 132; 251, ч. 1, с. 101), во время дворцовых церемоний они стояли особой шеренгой, отдельно от сакалиба, хотя и рядом с ними [276, с. 51, 119, 184, 198, 230; 41, т. 1, с. 251].
13 Прилагательное, входившее в состав арабского имени и указывавшее на связь
(например, происхождение) человека с тем или иным местом или народом, например ал-
Андалуси (андалусец), ас-Сикилли (сицилиец), ат-Турки (тюрок) и т.д.
14 Родным языком отца Насра, как мы узнаем из источников, был испанский [112, с. 111-112]. Можно возразить, что у Ибн ал-Фаради (ум. в 1013 г.) упоминается некий Наср ас-
Саклаби, носивший, как и евнух 'Абд ар-Рахмана II (822-852), куийу (прозвище) Абу-л-
Фатх [272, т. 2, с. 157; № 1493]. Но следует ли обязательно идентифицировать этих двух
слуг? В некоторых случаях идентификация слуг, упоминаемых у Ибн ал-Фаради, со
слугами, о которых говорится в других источниках, невозможна. Так, в одном месте Ибн
ал-Фаради упоминает о некоем Афлахе, клиенте кордовского халифа 'Абд ар-Рахмана III
[272, т. 1, с. 83, М° 262]. В то же время Афлахом назывался известный вольноотпущенник
'Абд ар-Рахмана III, который служил в войске и часто принимал участие в походах. Но
данные источников позволяют нам заключить, что речь идет не более чем о совпадении.
Афлах, упомянутый у Ибн ал-Фаради, в 337 г.х. (11 июля 948 - 30 июня 949 г.) уехал на
Восток, тогда как вольноотпущенник-полководец умер в 321 г.х. (1 января - 22 декабря 933
г.) [120, с. 330]. Ибн ал-Фаради и Ибн Хайй-ан говорят, следовательно, о разных людях.
При этом, зная интересы авторов, можно сказать, что Ибн ал-Фаради пишет об
андалусских факихах, историки - о людях, принимавших участие в политической жизни. О
Насре Ибн ал-Фаради сообщает лишь то, что он рассказывал хадисы со слов некоего 'Абд
ар-Рахмана Ибн Асада ал-Казаруни ал-Макки, не сообщая при этом никаких дат. Наср, служивший 'Абд ар-Рахману И, занимался отнюдь не рассказом хадисов, а службой во
дворце, причем принимал весьма активное участие в политической жизни. Известен он
прежде всего как влиятельный придворный евнух, участвовавший в отражении нападения
норманнов в 844 г. и погибший впоследствии в результате неудачной попытки отравить
своего повелителя. Если мы будем придерживаться идентификации этих двух людей, как
тогда объяснить, что Ибн ал-Фаради ни словом не упоминает о таких известнейших
фактах из его жизни? Видимо, речь идет все-таки о разных людях - придворном евнухе
Насре с неизвестной нисбой и Насре ас-Саклаби, рассказывавшем хадисы. Но как тогда
объяснить, что оба слуги носили кунйу Абу-л-Фатх? Если мы просмотрим наиболее
важные испано-мусульманские сборники биографий ученых, то обнаружим в них двадцать
три человека по имени Наср [272, т. 2, с. 157, J* 1491-1493; 322, с. 234, № 835-838; 252, с.
636-637, № 1395-1400; 78, с. 461-462, № 1390-1393; 240, т. 2, с. 211-213, № 579-590; 29, с.
199-200, № 180,181]; двенадцать из них носили кунйу Абу-л-Фатх. Следующая по частоте
употребления кунйа - Абу 'Амру - обнаруживается всего три раза. Такие подсчеты
показывают, что сочетание имени Наср и кунйи Абу-л-Фатх встречалось в мусульманской
Испании намного чаще, чем какое-либо иное. Возможность того, что два слуги по имени
Наср носили одну и ту же кунйу, следовательно, весьма высока, и вероятность совпадения
не дает возможности с уверенностью отожествить евнуха 'Абд ар-Рахмана II с евнухом-
хади-соведом. Между прочим, у Ибн ал-Фаради упоминаются еще три человека по имени
Бадр, из которых двое именуются ас-Саклаби; все они носят кунйу Абу-л-Гусн, но
остаются при этом разными людьми [272, т. 1,с. 96, №294-296].
" О фаррашун см.: 288, т. 3, с. 341.
16 Кутама - моя поправка от Клана, что мы видим в тексте рукописи. Автор, очевидно, имел в виду не арабское племя кинана, а берберское племя кутама, воины которого
составляли основу фатимид-ского войска. При этом они составляли в войске особый
корпус (та'и-фа), и автор отделяет их здесь от остальных берберов.
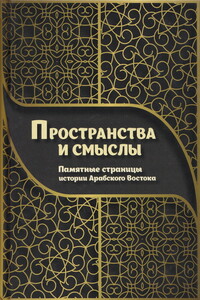
Монография представляет собой очерк ряда ярких и одновременно слабо изученных эпизодов многовековой истории Арабского Востока. При том, что на страницах монографии дана широкая панорама истории арабов в эпоху Античности, Средние века и Новое время, основным центром притяжения авторского внимания является проблема пространств в арабо-мусульманской истории. Как воспринимали арабов античные авторы и что мы знаем о структуре, перемещениях и свершениях арабских племён доисламской поры, как описывали арабские авторы земли, лежавшие за пределами Дар ал-ислам, и как воспринимали пришедших оттуда чужаков, как в арабской географической литературе сочетались реальные знания и мифологизированные представления, как сосуществовали номадическое и городское пространства на мусульманском Западе и как структурировалось пространство мечетей ал-Андалуса, как выстраивались социальные и смысловые пространства арабского мира в позднее Средневековье и в Новое время — все эти вопросы рассматриваются авторами монографии на материале конкретных исторических казусов.
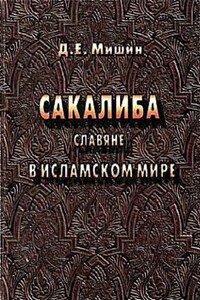
сакалиба исламской литературы — бывшие воины славянских контингентов византийских армий, перешедшие в ходе боев в Малой Азии на сторону мусульман, а также невольники славянского происхождения, привезенные на Восток из славяно-германского региона, Чехии, русских земель, с Балкан. Каждая из этих групп имеет свою историю. Предпринятое в работе комплексное изучение средневековых восточных и западных материалов дало возможность установить общие закономерности истории сакалиба, а также сделать ряд наблюдений относительно истории исламского мира, Европы, Руси.
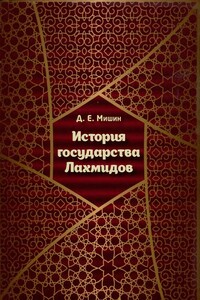
Настоящая работа представляет собой попытку реконструкции истории государства Лахмидов, существовавшего в период со второй половины III по начало VII вв. в юго-западной части современного Ирака. Правители Лахмидской династии обладали властью над рядом арабских племен, в том числе и живших в Аравии, но в то же время подчинялись царям Сасанидской державы и служили им как наместники. В работе представлена политическая история Лахмидского государства, сделаны наблюдения и обобщения относительно его развития.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
