Сакалиба - [6]
оскоплялись, ибо были боевыми рабами, представляли собой особый разряд слуг - точно
так же, как и негры, о которых упоминает Ибн аз-Зубайр.
Ибн Хаййан, перу которого принадлежит фрагмент 1, говорит о мусульманской Испании.
Позволяют ли данные источников говорить о существовании в Андалусии различных
разрядов слуг, к которым относились также сакалиба и фухул! Гилман фухул
действительно представляли собой один из таких разрядов. Упоминание о фухул,
например, мы видим в описании принесения присяги андалусскому халифу ал-Хакаму II (961-976) в 961 г. [41, т. 1, с. 251], других дворцовых церемоний [276, с. 48, 192; 41, т. 1, с.
251]. При этом фухул иногда упоминаются даже наряду с другими неоскопленными
рабами - например, щитоносцами или лучниками дворцовой стражи. Точно так же в
рассказах источников о кордовском дворе мы встречаем наряду с сакалиба немало
евнухов, не относящихся к ним. Для них используются иные слова - хадим (мн.
хадам),хаси (мя.хисйан),фата (мн. фитйан), по всей вероятности, васиф (мн. вусафа)п.
Далеко не все евнухи именуются сакалиба. Так, в источниках по истории Андалусии мы
нигде не видим, чтобы нисба'1 ас-Саклаби давалась знаменитому евнуху кордовского
эмира 'Абд ар-Рахмана II (822-852) Насру. Но Наср действительно не имел к сакалиба
никакого отношения. В источниках мы читаем, что он происходил из испанского города
Кармоны и добровольно стал рабом, чтобы служить во дворце [275, с. 15]".
Изложенные здесь соображения показывают, что Ибн Хаййан пользуется категориями,
употреблявшимися при кордовском дворе. Сакалиба выступают здесь скорее как один из
разрядов евнухов. Как таковые, они отличаются от неоскопленного раба-фахла: в то же
время идентифицировать сакалиба со всеми евнухами вряд ли правомерно.
Аналогичные примеры можно привести в отношении Северной Африки. Там сакалиба
выделяются из обшей массы евнухов. Так, в рассказе о подарке Ситт ал-Мулк своему
брату, фатимидскому халифу ал-Хакиму (996-1021) (об этом см.: часть III, гл. 3), мы
обнаруживаем в перечне даров пятьдесят евнухов (хадим), из них лишь десять сакалиба
[303, с. 68; 286, т. 1, с. 458; 288, т. 2, с. 15]. Тот же ал-Хаким, согласно ан-Нувайри, одарил
однажды три группы слуг, именно: сакалиба, фаррашун и са'диййа [298, т. 28, с. 191]. Мы
снова видим, что группы формируются на разной основе. Фаррашун указывает на
определенные функции слуг при дворе15, са'диййа, по-видимому, названа по имени
человека, клиентами которого были члены группы. По свидетельству другого
средневекового историка ал-Макризи (1364-1442), ал-Хаким пожаловал однажды аман
(официальную гарантию безопасности) евнухам, сакалиба и писцам [288, т. 2, с. 79], в
другой раз-писцам, врачам, чернокожим слугам и спутшл-сакалиба [288, т. 2, с. 82].
Перейдем теперь к фрагментам 2-6. То, что они указывают на трансформацию понятия
саклаби, неоспоримо. В то же время уместно задаться вопросом: на каком этапе
произошла перемена? Здесь существенным представляется следующее наблюдение. Ибн
Макки и Ибн Хишам особо останавливаются на применении названия сакалиба к
чернокожим евнухам; у аз-Зухри сакалиба - невольники из Абиссинии. Но в более ранних
источниках мы видим совсем обратное: не сближение сакалиба и чернокожих слуг, а
четкое разделение между ними. Наиболее показателен в этом плане созданный в конце X
в. географический трактат <Наилучшие разделения в познании климатов> (<Ах-сан ат-
Такасим фи Ма'рифат ал-Акалим>) ал-Мукаддаси (род. в 9467 47 г., ум. около 1000 г.), где
белые невольники (сакалиба и румийцы) противопоставляются невольникам африканским
(берберам и неграм) [76, с. 242]. Столь же четкое разграничение прослеживается и в
описаниях дворцовых церемоний и дворцовой жизни вообще, что мы увидим по ходу
изложения истории слуг-сакалиба в мусульманском мире. Стоит процитировать
современника ал-Мукаддаси фатимидского халифа ал-Му'изза (952-976). Отвечая своему
приближенному слуге-сак-лаби Джузару, жаловавшемуся на высокомерное и
пренебрежительное отношение к евнухам со стороны знати, ал-Му'изз писал:
<Странно и удивительно также, что они говорят: "Мы племя пророка Аллаха - да
благословит Аллах его и племя его, и потомки ал-Махди и ал-Ка'има би Амр-Аллах-а
(первые фатимидские халифы. - Д.М.) - да благословит Аллах их обоих". Скажи им: '"О, ослы! Разве есть на земле хоть один человек, кто не был бы потомком Адама, посланника
Аллаха? Разве негры (ас-судан) не потомки Хама, сына Ноя, посланника Аллаха? А
сакалиба разве не потомки Яфета, сына Ноя, посланника Аллаха?"> [290, с. 65].
Ал-Му'изз определенно говорит в данном фрагменте о своих слугах - неграх и сакалиба, -
против которых были направлены выпады знати. Эта записка, исходящая от человека,
который ежедневно, своими глазами, видел как сакалиба, так и чернокожих слуг, важна не
только как свидетельство четкого разделения между ними. В данном фрагменте
фатимидский халиф совершенно определенно придает понятию сакалиба значение не
социальной, а этнической категории. До нас дошел еще целый ряд фрагментов, где слово
сакалиба имеет скорее этнический, чем социальный смысл. Для мусульманской Испании, например, показательны следующие отрывки из составленного в конце X в. трактата
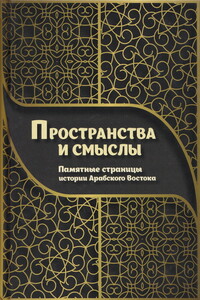
Монография представляет собой очерк ряда ярких и одновременно слабо изученных эпизодов многовековой истории Арабского Востока. При том, что на страницах монографии дана широкая панорама истории арабов в эпоху Античности, Средние века и Новое время, основным центром притяжения авторского внимания является проблема пространств в арабо-мусульманской истории. Как воспринимали арабов античные авторы и что мы знаем о структуре, перемещениях и свершениях арабских племён доисламской поры, как описывали арабские авторы земли, лежавшие за пределами Дар ал-ислам, и как воспринимали пришедших оттуда чужаков, как в арабской географической литературе сочетались реальные знания и мифологизированные представления, как сосуществовали номадическое и городское пространства на мусульманском Западе и как структурировалось пространство мечетей ал-Андалуса, как выстраивались социальные и смысловые пространства арабского мира в позднее Средневековье и в Новое время — все эти вопросы рассматриваются авторами монографии на материале конкретных исторических казусов.
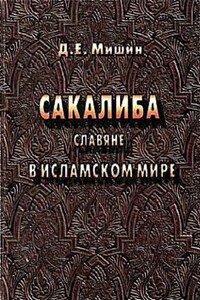
сакалиба исламской литературы — бывшие воины славянских контингентов византийских армий, перешедшие в ходе боев в Малой Азии на сторону мусульман, а также невольники славянского происхождения, привезенные на Восток из славяно-германского региона, Чехии, русских земель, с Балкан. Каждая из этих групп имеет свою историю. Предпринятое в работе комплексное изучение средневековых восточных и западных материалов дало возможность установить общие закономерности истории сакалиба, а также сделать ряд наблюдений относительно истории исламского мира, Европы, Руси.
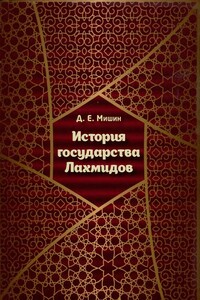
Настоящая работа представляет собой попытку реконструкции истории государства Лахмидов, существовавшего в период со второй половины III по начало VII вв. в юго-западной части современного Ирака. Правители Лахмидской династии обладали властью над рядом арабских племен, в том числе и живших в Аравии, но в то же время подчинялись царям Сасанидской державы и служили им как наместники. В работе представлена политическая история Лахмидского государства, сделаны наблюдения и обобщения относительно его развития.

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину происходившего на Балканах в конце прошлого века комплексно, обращая внимание также на причины и последствия событий 1999 г. В монографии повествуется об истории возникновения «албанского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток кризиса в Косове в 1997–1998 гг., ставший предвестником агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта — июня 1999 г. посвящена отдельная глава.
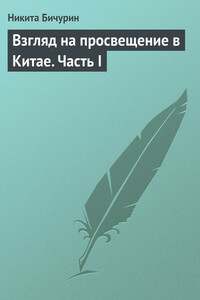
«Кругъ просвещенія въ Китае ограниченъ тесными пределами. Онъ объемлетъ только четыре рода Ученыхъ Заведеній, более или менее сложные. Это суть: Училища – часть наиболее сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ, соответствующая Академіямъ Наукъ въ Европе…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.