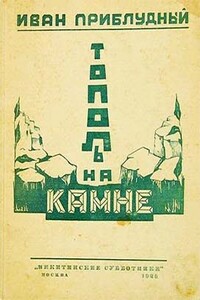В жизнь мою, — угар и смуту,
в сень созревших лет, —
покажись хоть на минуту
детства млечный свет.
Все, что в путь к полудню вышло
на рассвете дня,
подкрадись ко мне чуть слышно,
отзови меня.
Может-быть опять я встречу,
встречу и верну
лучших дум моих предтечу,
лучших слов струну.
Может-быть, былым гонимый,
явится мне вдруг
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.
Под горой, под невысокой,
как легенда стар, —
шелестит между осокой
голубой Гайдар.
Там, — росистый, по баштанам,
оставляя след, —
бродит с солнцем и туманом
мой певучий дед.
До сих пор люблю и помню
лоз нестройный строй,
на горе — каменоломню
дом твой — под горой.
И как песню — твое имя
повторяю вслух,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.
Слишком рано над гнездом я
крылья распростер,
чтоб у дальнего бездомья
разжигать костер.
Но разжег… и мгла глухая
не убьет огня,
он горит, не потухая,
до расцвета дня.
Где же ты, в какие шири
устремлен твой взгляд,
как живешь ты в этом мире,
чем твой дух объят?
Где твои лета и зимы
завершают круг,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.
Та ли ты, с прической пышной,
с грустью на челе,
той ли поступью чуть-слышной
ходишь по земле?
Той ли кротостью струится
материнский взгляд,
на безгорестные лица
школьников-ребят?
Обиваешь ли тропинки
на крутых местах,
вышиваешь ли барвинки
на чужих холстах,
со старинной мандолиной
делишь-ли досуг,
мой единственный, любимый,
мой далекий друг.
Ты мне первая когда-то
руку подала;
в детстве, лаской небогатом,
матерью была.
Ни поэмам, ни рассказам,
не воздать вполне,
скольким я тебе обязан
в том, что есть во мне.
Жди-ж меня… как утешенье
я к тебе приду,
под баштанное цветенье
в будущем году
озарить твои седины,
исцелить недуг,
мой, единственный, любимый,
одинокий друг.