Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма - [97]
Ни в коей мере не претендуя на какое-либо разрешение сложного дискуссионного вопроса, мы хотели бы в данном разделе высказать о проблеме литературного импрессионизма в России серебряного века следующее. Возможно, «импрессионистическое» начало было вообще свойственно умонастроениям эпохи, проявляясь как диффузный, «распыленный» в стиле эпохи «оттенок». Тогда импрессионизм заведомо не имел характера самостоятельного литературного течения, подобного символизму. Ставить вопросы типа «реалист такой-то художник или символист», несомненно, правомерно. Постановка вопросов типа «символист» он «или импрессионист» выглядит несколько иначе. Как именно? Бывают целые литературные периоды, нередко длительные, когда писатели с неотступным упорством разрабатывают какую-то излюбленную, отвечающую умонастроениям и вкусам эпохи тематику или какие-то характеры (например, образ «лишнего человека», образ «маленького человека» и т.п.). Бывают периоды, когда поэзией овладевает влечение к каким-то становящимся чертой «стиля эпохи» «техническим» приемам (например, тяга к метафоризму, к писанию верлибром и т.п.). Представим же себе на минуту постановку вопроса «реалист имярек или он любит изображать "лишних людей"». Или представим себе вопрос: «символист такой-то художник или верлибрист» (ср. также «реалист или метафорист» и т.д.). Ясно, что этого рода вопросы с точки зрения их корректности сомнительны. На них, видимо, правильнее всего было бы отвечать так: одно другому не противоречит, одно другому не препятствует. Возможно, с русским литературным импрессионизмом применительно ко многим конкретным авторам дело обстоит аналогично. Горький, Чехов, Бунин, Зайцев и т.д. – реалисты, что не мешает им проявлять импрессионистические черты, ибо «импрессионизм» у них проявляется в той мере, в какой он был знаком эпохи, особенностью культурного стиля эпохи. Он дает себя знать невнятно, в каких-то «технических» частностях, в каких-то интонациях, а главное, не складывается в систему (как это было в живописи и музыке).
Хотелось бы еще раз повторить, что в данном случае мы высказываемся в дискуссионном порядке, не претендуя на окончательное разрешение проблемы русского литературного импрессионизма. Возможно, «импрессионистическую» тональность при специальном анализе можно было бы уловить не только в живописи и музыке серебряного века (где импрессионизм дал себя знать как самостоятельное течение), не только в литературе (где он усматривается одними и оспаривается другими), но и в других явлениях культуры данного периода. Хотелось бы напомнить в этой связи суждение истерика А.С. Лаппо-Данилевского, приведенное в первом разделе первой части, о внутренней связи и «консенсусе» между нередко далекими внешне друг от друга фактами, относящимися к одному периоду. Тогда не только в художественное, но и в научной мысли серебряного века могла бы, не исключено, быть уловлена «импрессионистическая» тональность в каком-то широком смысле. Дерзкий полет мысли и философская элегичность, намерение объективно разобраться в тайнах бытия и об руку идущий с этим субъективизм... Мгновенная фиксация мимолетных ощущений, о которой говорят применительно к художественному импрессионизму, – и «Спорады», философские записи Вяч. Иванова, а также, например, философские записи В. Розанова...
Критик «Веров» косвенно проявляет понимание того, что такое диффузное проникновение определенного начала в разнообразные культурные сферы эпохи в принципе возможно, – говоря в 1905 году, что таков был в начала предыдущего века романтизм: это не только и не столько литературное течение – «и идеи Священного Союза, и гневный протест Байрона одинаково коренятся в романтических течениях эпохи»[364].
На примере розановского «Уединенного» можно понять, как могло себя проявлять конкретно упомянутое диффузное распространение «распыление» импрессионистического начала в серебряном веке. Не создай В. Розанов плюс к «Уединенному» еще и «короба» «Опавших листьев», «Уединенное» могло бы восприниматься как просто собранные вместе разные случайные авторские мысли. Но «короба» показали, если можно так выразиться, «устойчивость случайности» – повторяемость ее от книги к книге, так что в этом проступает уже определенный принцип, сохранявший важность для автора на протяжении многих лет его творчества. Налицо, оказывается, не случайность как таковая включения материала в «Уединенное», а иное: стремление создать у читателя иллюзорное, художественное впечатление такой «случайности».
Художественный синтез в «Уединенном» отличается, между прочим, тем, что здесь Розанов (в отличие, например, от своих статей о Достоевском) не ограничивается обычным литературно-критическим анализом писательского творчества. Здесь из якобы «случайных», внешне разрозненных мыслей «вокруг» того или иного писателя исподволь складывается как бы мозаичный «портрет» его творчества, его жизни, мгновения которой «остановлены» в отдельных частичках этой мозаики. Тут уже не просто анализ, импрессионистическое переживание литературы (есть и «мгновения», и «мимолетности», и «случайность», есть и лиризм – набор основных черт, который обычно привлекается, когда доказывается, что чей-либо «импрессионизм» налицо. Следовательно, можно либо указывать еще на одного «импрессиониста» в литературе серебряного века, либо видеть, как формулировалось выше в нашей книге, «поэзию в прозе» (импрессионистические же отзвуки относить к разряду универсалий, окрасивших эпоху в целом).
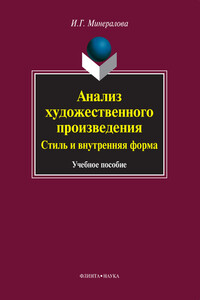
В книге обозначены доминантные направления в филологическом анализе художественных (поэтических и прозаических преимущественно) произведений разных жанров. Указаны аналитические пути, позволяющие читателю насколько возможно близко подойти к замыслу автора и постичь содержание и внутреннюю форму (А.А. Потебня) художественного целого и слова как произведения в этом целом.Для студентов и преподавателей.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».