Русь и вера - [5]
«"Отрицание Истины – есть Ложь. Отрицание отрицания (отрицание Лжи) – есть Истина". Это даже не плоское мышление. Это мышление представителей "серых" цивилизаций [под серыми он понимает евреев], которые живут между Светом и Тьмой. Новое мышление характеризуется новой диалектикой – многомерной. Я об этом уже неоднократно писал… "Отрицание Истины не есть Ложь, а иная Истина. И только тогда, когда последнее отрицание отрицаний (иных Истин) замкнётся на Первую Истину, только тогда появляется Перво-Истина, но уже в качественно иной форме"».
Изобретатель «многомерной(?)» диалектики изрёк перл, непростительный даже студенту. Потому что нет множества истин. Не бывает первоистины и вторичных истин. Истина одна. Это наши представления о ней различны по глубине. Поэтому и говорим: «У каждого своя правда». До конца же Истины человеку не понять никогда, ибо она фрактально-бездонна, бесконечна. Вглядываясь вглубь, мы видим только размытость. У ненавидимых философом «серых» иудеев есть понятие emeth
Поэтому «серые» просто ржут над пониманием Истины таким горе-философом. Уровень слаб и кишка тонка. Самонадеянные попытки бороться с идеологией всемирного масонства без знания хотя бы элементарных основ герметизма приводят к гомерическому хохоту оппонентов. Над такими профанами гарвардские полит- и психотехнологи лишь посмеиваются как над безобидной и неопасной глупостью.
Сегодня стало модным колотить себя в грудь и орать о своём квасном патриотизме, о своей русскости, о своей боли за народ и Родину. Самосознание народа просыпается. А с ним и появляется сопутствующий мусор фанатизма. Такое и раньше бывало. Когда-то комиссары в патриотическом рвении бросали кавалерийские эскадроны с саблями наголо против танков. И бессмысленно гибло много народу: не за Родину, а из-за дури фанатика.
Однако, дурак дураку рознь. В русских сказках всегда прав оказывается Иванушка-дурачок. И не понять этого фольклорного парадокса, если не знать герметизма, в котором 21-й аркан (шут, дурак, блаженный, юродивый) олицетворяет парадоксальность мышления Творца. С точки зрения заземлённого левополушарного логического рассудка мышление Бога – парадокс, алогизм, блажь, абсурд, нонсенс (non-sens фр. – бессмыслица). А ведь это и есть подсознательное мышление – интуиция, которую рассудком объяснить непросто. Но до неё надо дорасти. Герметическую глубину русской сказки нельзя понимать буквально. Так что Иван-дурак – вовсе не дурак.
Ныне к духовному возрождению национального самосознания русского народа примазывается много отмороженного люда: фашиствующие скинхеды, антисемитствующие казачки, христианствующие хоругвеносцы, лукавствующие попы, сочинители «новых супернаук», всякие «воины Света» против какой-то «Тьмы» и прочие персонажи орущего шабаша. Всех напёрсточников не перечислить. Украинский казачок в шароварах и с селёдочным чубом на лысине и россиянский самопровозглашённый бородатый «волхв» в расшитой рубахе и с лентой на лбу ничем не отличаются от иудейского фаната в шляпе и с пейсами – всё это карнавал ряженых на ярмарке тщеславия, пустая показуха. «Попса хавает». Ищущим вместо истинных народных корней подсовывают суррогат.
На патриотизме делают бизнес. Профессиональные патриоты много шумят о народе богоносце и поют ему льстивые песни. О том, что даже в высших слоях общества полно быдла, воров и отморозков, принято помалкивать. В жизни не так всё красиво. Напомню: в 1918 году окрестные крестьяне вовсе не с целью грабежа, а для потехи, с песнями и плясками под гармошку жгли Михайловское. Такова сермяжная правда факта.
Живём мы скудно потому, что сами в этом виноваты. Потому что пока мы недостойны уникального наследия собственных предков и веры, которую потеряли. И теперь, когда она нашлась, мы её не узнаём. Мы стали другими, мы изменились. В лучшую ли сторону?
Сверчок и шесток.
Что сложнее всего? Бог, Абсолют, «Ничто», «Великая Пустота», Сознание, Мысль. Потому что Бог есть бесконечная сложность. Посмотри на людей. Чем ниже они по уровню сознания, тем охотнее судачат о Боге. Умничают о «структуре(?)» Бога, его природе, сочиняют формулы единого вселенского закона, не догадываясь, что числом всё не объять.
Что описывается числом, то можно сконструировать в виде машины. В пределах рассудочной формальной логики. Создать же что-либо сложнее самого себя запрещает теорема Гёделя. Интуицию и парадоксальность подсознания, душу и Бога пытаться описывать числом бесперспективно. Математик, например, взвоет, услышав о тождестве нуля и бесконечности. Не примет он и одновременное тождество и подобие. Любая машина остолбенеет и зависнет перед парадоксом. Но когда-то Пифагор ляпнул: «Всё есть число», и люди до сих пор повторяют. А ведь Пифагор имел в виду под этим «всё» только материальное, да и то сильно преувеличил. Попробуй-ка оцифровать любовь или совесть. Число не есть Бог. Число – это количество чего-то, что можно посчитать. И не более того. И когда множество становится Единым, а ноль отождествляется с бесконечностью, число исчезает за ненадобностью.
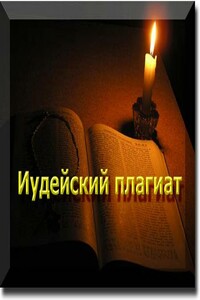
Истина, написанная на заборе, не перестаёт быть истиной. Для неё необязательна публикация в престижном академическом издании в роскошной обложке и с рецензиями авторитетов. А для настоящих прорывных открытий обычно не существует специалистов для оценки. Поэтому высказываются все, кому не лень, проходя три стадии:1. Полная чушь. Этого не может быть.2. Пожалуй, в этом что-то есть.3.Да кто этого не знал? Банально и не ново.Из текста.
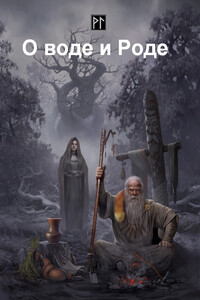
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья составлена автором по материалам его книги «Веда славяньска» (Черновцы, «Мiсто», 1998, ISBN 966–7366–29–4).

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.