Роман тайн «Доктор Живаго» - [22]
Блистающие белые одежды, в которые облачается Христос на горе Фавор и в Евангелиях, и во всех их живописных продолжениях, как будто не находят себе точного коррелята в разбираемом отрывке романа. Нельзя, впрочем, упускать из виду того, что рассказ о посещении Юрием Живаго жилища Гордона открывается мотивом особо легкого верхнего платья:
Начало лета в тысяча девятьсот двадцать девятом году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебегали через две-три улицы друг к другу в гости.
(3, 473)
К этим людям без пиджаков принадлежит, по всей видимости, и Живаго, чей дом был расположен совсем рядом с домом Гордона[122]. Похоже, что Пастернак вступает здесь в полемику с иконоборческим революционным стихотворением Маяковского «Радоваться рано»:
Изменение в одежде, вовсе не означающее, по Маяковскому, нового рождения человека, получает у Пастернака (в обоих случаях говорится о «пиджаках») прямо противоположный смысл в сцене, которая сопряжена с «Преображением» Рафаэля (названного в «Радоваться рано» среди прочих авторитетов, подлежащих сокрушению). И, наоборот, внутреннее превращение, к которому призывает Маяковский, компрометируется Пастернаком в лице Дудорова, «перевоспитанного» в тюрьме, ссылке и под следствием. «Нутро» для Живаго, отождествляющего душу с нервной системой, с «состоящим из волокон физическим телом», — то, что «нельзя без конца насиловать безнаказанно» (3, 476). Споря с Маяковским, Пастернак, однако, перенимает из стихотворения «Радоваться рано» некую долю содержавшегося там антиэстетического пафоса:
Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы[124] […] «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск, и искусство ваших любимых имен и авторитетов!» [ср.: «Старье охраняем искусства именем»].
(3, 474)
Преображенские белые одежды, не оговариваемые эксплицитно в рассказе о последнем свидании Живаго с друзьями, все же присутствуют в романе. После бегства из партизанского лагеря Живаго попадает в Юрятин и пытается там снять бороду, отросшую за время его скитаний (бородатый Живаго совпадает с Комаровским в старости). Чтобы раздобыть ножницы, он направляется в юрятинскую швейную мастерскую, которая напоминает, с одной стороны, ту, что купила мадам Гишар (оба заведения возглавляются женщинами), а с другой — портновское ателье в Москве с его стеклянной стеной:
Мастерская занимала торговое помещение на уровне тротуара с витринным окном во всю ширину и выходом на улицу. В окно было видно внутрь до противоположной стены. Мастерицы работали на виду у идущих по улице.
(3, 378)
Одна из сестер Тунцевых, заведующая пошивочным делом в Юрятине, соглашается постричь Живаго и набрасывает на него простыню, которая делает его похожим на Христа «во славе»:
Портниха впустила доктора, ввела в боковую комнату не шире чуланчика [ср. мотив скрытности Христа в момент трансфигурации. — И. С.], и через минуту он сидел на стуле, как в цирюльне, весь обвязанный туго стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней.
(3, 379)[125]
Технику аллюзии, которой пользуется Пастернак, следовало бы определить как аналитическую: мотивика евангельского Преображения дробится в «Докторе Живаго» и распределяется по разным (но в то же время связанным между собой) сегментам повествования.
Юрятинская пошивочная мастерская и московское портновское ателье, будучи местами, где Живаго оказывается равнозначным Христу, восславленному Богом-отцом на горе Фавор[126], обытовляют метафору демиург-закройшик, развивающую евангельскую тему Преображения-переодевания (та же метафора регулярно встречается в пастернаковской лирике — ср. хотя бы: «Только крыши, снег и, кроме / Крыш и снега, — никого […] / Ты появишься у двери / В чем-то белом, без причуд, / В чем-то впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют» (1, 404)).
При всех совпадениях Юрия Живаго с Фаворским Христом пастернаковскому герою не удается то, что сделал сюжетом своего «Преображения» Рафаэль, — излечение бесноватого. Юрий не может переубедить Гордона и Дудорова и не в силах спасти от безумия Памфила Палых. Способность Клинцова-Погоревших к коммуницированию, вопреки его глухонемоте, дана в романе в виде ложного чуда: в темноте эта способность исчезает. История Христа вечно возобновляется, но тот, кто возрождает ее, не достигает высоты прообраза.
Пастернак не просто транспонировал семантическую композицию «Преображения» Рафаэля в свой роман, но и принял в расчет историю этого живописного полотна, его интерпретации и биографию его автора.
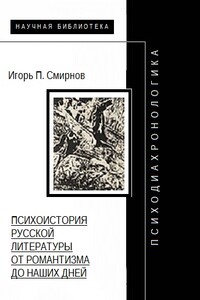
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.