Роман тайн «Доктор Живаго» - [24]
Итак, Живаго, попирающий мышиные тела, оказывается эквивалентным тому Живаго, который спорит с одержимыми косноязычием друзьями, если иметь в виду установленную Макс. Волошиным равносильность Аполлона — мышиного бога и Христа в «Преображении» Рафаэля[135].
Биография Живаго на ее начальном и конечном отрезках коррелирует (пусть и не во всех частностях одно-однозначно) с судьбой Рафаэля.
Живаго умирает в 1929 году, т. е. в тридцатисемилетнем возрасте, как Пушкин и Маяковский, но также и как Рафаэль. (Дата рождения Живаго не названа в романе, однако она легко высчитывается разными способами, например, следующим. Нике Дудорову в 1903-м идет четырнадцатый год; Юрий Живаго на два года младше своего приятеля и, значит, родился в 1892-м[136].) Рафаэль потерял своего отца одиннадцатилетним (1494). Отец Юрия Живаго кончает самоубийством в 1903 году, когда сыну исполняется одиннадцать лет. Отцы обоих состояли в двух браках. И Рафаэль, и Юрий Живаго рано лишились матерей, правда, первый в возрасте восьми, а второй — десяти лет; и для того, и для другого воплощением семейного начала стали затем дяди по материнской линии (соответственно: Симон и Николай Николаевич Веденяпин). Занятия Юрия Живаго литературой постоянно ставятся Пастернаком в параллель к деятельности живописца, — кроме уже приводившегося примера, ср. еще:
Юра […] мечтал о прозе […] Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.
(3, 67)[137]
Умирая, Рафаэль отослал свою возлюбленную от себя, предварительно щедро одарив ее, так что ей было обеспечено безбедное будущее. Живаго сам удаляется от Марины, чуя наступление конца; она получает от него затем крупную сумму денег. Вазари называет причиной ранней кончины Рафаэля половые излишества. Предвещая свою скорую смерть, Живаго отрицает за собой склонность к неумеренному образу жизни, как если бы кто-то подозревал его в этом:
А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни.
(3, 476)
Интересно, что Пастернак колебался в объяснении преждевременной смерти Живаго. В первых вариантах романа его заглавный герой был показан далеким от воздержанности. По словам Марины, Живаго,
кабы его не испортили […] долго бы еще прожил. Бывало, найдет прояснение, бросит пить, одумается, опять займется практикой, и не нахвалятся люди, как он лечит…
(3, 617)
Смерти Рафаэля в Риме соответствует смерть Живаго в Москве, которую Пастернак уравнивает с Римом. Главным признаком языческого Рима являлась, по Веденяпину, теснота, созданная людскими скопищами:
Рим был толкучкою […] давкою […] Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.
(3, 46)
Те же толкотня и толпление рисуются Пастернаком в главе о смерти Живаго:
Он стал протискиваться через толпу […] прорвался сквозь толчею […] рухнул на камни и больше не вставал.
(3, 484)[138]
Итак, Живаго — это лицо и участвующее в сцене, которая во многом пересекается с «Преображением» Рафаэля, и напоминающее в то же время самого создателя этого полотна. Пастернак, сообразно своей метонимической поэтике, не разграничивает информацию о продукте и о его творце, заложенную в подтекст романа.
У этой пастернаковской метонимии есть психическое основание. В ней отпечаталась особая форма эдипова комплекса[139] — конкуренция сына с отцом-живописцем[140]. В роли Христа из «Преображения» Рафаэля пастернаковский герой-поэт является порождением живописи, ее результатом, «по-сыновьему» связан с ней. Вместе с тем поэт Живаго, которому приданы черты автора «Преображения», выражает собой тайное стремление поэта Пастернака узурпировать место отца, художника (художником, кстати сказать, был и отец Рафаэля).
Сделаем еще несколько выводов из предпринятых сопоставлений и разборов.
Дважды подчеркнутая Пастернаком «странность» помещения, где случается подобие Фаворского чуда, устанавливает эквивалентность между христианским Преображением и толстовско-формалистским «остранением» (вряд ли случайно живаговское Преображение совершается у Гордона филолога, учившегося на философском факультете, и последователя Толстого)[141]. Пастернак включил фундаментальную для его современников-литературоведов идею «остранения»[142] в православную традицию (для которой, вообще говоря, Преображение Христово является, в сравнении с католицизмом, особо значимым праздником)[143].
Основной прием, посредством которого Пастернак шифрует связь своего романа с живописными источниками иконописью и картиной Рафаэля, состоит в профанирующем обытовлении и осовременивании взятых оттуда сакральных реалий (так, облако, окутывающее Христа, превращается в табачный дым, а блистающие белизной одежды становятся парикмахерской простыней и т. п.).
Проведенное Пастернаком снижение сакрального многозначно. Во-первых, оно указывает на несоответствие между живаговским подражанием Христу и историко-социальным контекстом, который окружает героя романа, — псевдоутопическим (вспомним комнату Гордона в междуэтажном проеме), дефектным (ср. облупившееся золото на витрине некогда модного закройщика). Во-вторых, самая зашифровка «об
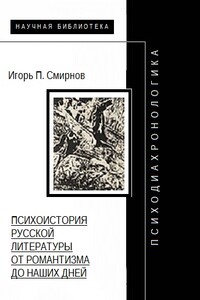
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.