Роман тайн «Доктор Живаго» - [20]
От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь […] Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала (3, 476)).
Выслушав в квартире Капернаумова историю Лазаря, Раскольников объявляет Соне, что порвал с родными. После спора с Гордоном и Дудоровым Юрий Живаго уходит из семьи и уединяется в комнате, снятой для него Евграфом[106].
Описание портновского ателье предваряется у Пастернака мотивом особенно жаркого лета (см. также III.2.2.3). Тот же мотив начинает «Преступление и наказание» и вскоре повторяется, чтобы объяснить жажду Раскольникова, который заходит в пивную, где узнает от Мармеладова о существовании Капернаумова.
Наконец, Амалия Карловна Гишар, чья швейная мастерская, как говорилось, стоит в одном смысловом ряду с домом, когда-то принадлежавшим портному, наделена в пастернаковском романе именем хозяйки квартиры, где ютится семейство Мармеладовых, Амалии Ивановны (Людвиговны) Липпевехзель, и отчеством соседки Капернаумова, Гертруды Карловны Ресслих.
Совмещая реминисценции из «Преступления и наказания» с откликами на «Что делать?», Пастернак, вне всяких сомнений, имел в виду, что романы Достоевского и Чернышевского составляют интертекст. Пастернак реконструировал диалог Достоевского с Чернышевским[107]. Столкновение двух мировоззрений, христианского и социально-утопического, развертывается у Пастернака на фоне литературных ассоциаций с произведениями, контрастирующими между собой при решении той же дилеммы, и притом развертывается так, что выявляется общая в этих источниках, свидетельствующая о непосредственной полемике одного из них с другим тема портновского дела. В описанном Пастернаком превращении портновского ателье, бывшего некогда двухэтажным, в трехэтажное, возможно, отражается генезис «Доктора Живаго», как бы встраивающегося еще одним ярусом между «Что делать?» и «Преступлением и наказанием».
2. «А Рафаэля забыли?»
Интратекстуально эпизод в комнате Гордона сопряжен со стихотворением Юрия Живаго «Август». В разговоре с друзьями Живаго предсказывает свою кончину так же, как это делает его лирический двойник в стихотворном тексте («— Мне не хватает воздуха […] Это болезнь […] Стенки сердечной мышцы […] в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть […] — Рано ты себе поешь отходную» (3, 475–476) «Мне снилось, что ко мне на проводы Шли по лесу вы друг за дружкой» (3, 525))[108].
Принято считать, что «Август», чье действие приурочено к православному празднику Преображения Господня, восходит к византийско-русской иконописи[109]. Сопоставление «Августа» со сценой у Гордона позволяет утверждать, что у всего этого смыслового комплекса был еще один, пожалуй, более важный, чем иконопись, изобразительный источник — «Преображение» Рафаэля[110].
В «Преображении» (1517–1520) Рафаэль впервые в живописной традиции объединил два евангельских сюжета, поместив у подножия горы Фавор «одержимого духом немым» отрока, которого Христос исцелил (Матфей, 17, 14–21; Марк, 9, 17–29; Лука, 9, 38–42) вскоре после того, как предстал перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном в своей небесной ипостаси[111].
Косноязычие Гордона и Дудорова ведет происхождение не только от речевого дефекта Капернаумова (новозаветна также немота Клинцова-Погоревших, о котором ниже). Вслед за Фаворским чудом Христос сообщает лицезревшим это событие ученикам о своем грядущем мученичестве (Матфей, 17, 12, Марк, 9, 9–13). Предвидение лирическим субъектом в «Августе» собственной смерти в связи с Преображением отвечает евангельским источникам этого стихотворения[112]. Наличие того же предвидения в беседе Живаго с друзьями заставляет подозревать, что и здесь есть слой Преображенских реминисценций. И действительно: в ответ на упреки Гордона и Дудорова Живаго говорит о жизни как стремлении к небу, к совершенству:
— Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? […] Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть […]
— Мне кажется, все уладится. И довольно скоро. Вы увидите [ср. лицезрение апостолами Преображения Господня. — И. С.]. Нет, ей-Богу. Все идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его.
(3, 476–477)[113]
Нехватка слов у Гордона и Дудорова ориентирует нас, следовательно, на сочетание двух евангельских сюжетов в «Преображении» Рафаэля точно так же, как и на «Преступление и наказание»[114].
Немой юноша у Рафаэля судорожно-экстатичен и (по евангельской модели) вот-вот готов упасть его телу придано вертикально-вращательное движение, его правая рука вскинута над головой, а левая, опушенная, уже старается смягчить предстоящий удар о землю. Косноязычные друзья Живаго преувеличенно жестикулируют; им предстоит расшибиться, если и не в буквальном смысле слова, то хотя бы метафорически:
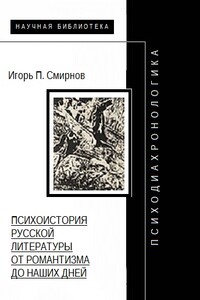
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.