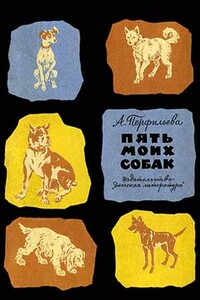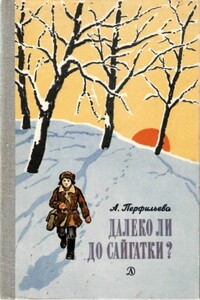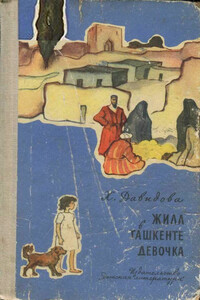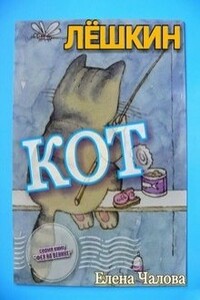Охваченный смутным чувством стыда, Максимка шагал за Осокиным по шпалам.
Машинист, высунувшись из паровоза, крикнул:
— Трогаемся, товарищ замполит!
Осокин показал Максимке на узкую прямую лесенку. По ней они забрались наверх, на платформу, огороженную металлическими перилами, и Максимке показалось, что си очутился на палубе какого-нибудь парохода — так высоко он был над землёй.
Но внизу, вместо моря, убегали блестящие рельсы и хорошо был виден весь приютившийся у леса поезд, а дальше краснела крыша разъезда.
Паровоз прогудел два раза. Из застеклённой будки управления на платформу вышел механик, махнул рукой.
Огромная зелёная махина легко и плавно сдвинулась с места и пошла, покатилась по рельсам.
— Что, Руднев, на таком поезде случалось тебе ездить? — спросил стоявший у перил Осокин.
— Не случалось, — сдержанно ответил Максимка. — Я знаю, это не поезд, а балластер называется. Только как на путях работает, ещё не видал.
Осокин засмеялся:
— Ничего, придёт срок, увидишь!
Максимка кивнул. Встречный ветер сильно и мягко ударил в его разгорячённое лицо и засвистал в ушах.
«…Пашка, здравствуй! Здравствуй, друг Пашка!..» — Максим отложил в сторону карандаш и задумался.
Сразу ярко и так ясно, как будто он видел их только вчера, вспомнилась родная деревня, Пашка и мать — не такая, какой была последние дни, с чужим, исхудавшим лицом, а весёлая и ласковая…
«…Здравствуй, Пашка, пишу это письмо вовсе не из Москвы, а со станции Слезнёво, Киевской железной дороги…»
Максимка опустил карандаш. Слова выходили скупые и холодные, а мыслей было много, и надо было получше объяснить всё, поделиться с Пашкой, как будто он тоже сидит здесь, рядом, и слушает его сбивчивый рассказ.
«…Меня приняли работать на железную дорогу, и живу я в вагоне, и вся станция из вагонов ездит чинить пути, а я пока не езжу…»
Нет, это выходило опять не то: непонятно и не про главное. Максимка зачеркнул написанное, взял чистый листок, уселся поудобней.
«…Здравствуй, Пашка, нахожусь я от тебя далеко. Я работаю на поезде, только он вовсе не такой. В Москве ничего не вышло, я тебе после напишу, почему. Пашка, я пока на выдаче инструментов, ну, ключи, домкраты, разные подбойки, всего не сосчитать, а живу в вагоне.
У нас, в нашем вагоне, восемь человек: четыре на одной половине, четыре на другой. В нашей половине Женя Чирков, он тоже сперва подсобным был, скоро выйдет на пути. Очень хороший парень и за меня заступается, если Косыга на смех поднимет. А Косыга — тот давно на путях, и, говорят, если возьмётся, так две нормы сразу выполняет, а если не захочет, так хоть замполита зови, еле ворочается. Ещё у нас Яша Леушкин из механического, мы с ним дружим, он мне всё про Волгу рассказывает. Чирков ленинградский, а Косыга вовсе откуда-то издалека.
Напиши мне, Пашка, как вы все живёте, ездите ли на покос и не ругает ли меня председатель Андрей Степанович? У нас тут с мастером, который меня на поезд устроил, разговор был, так я ему всё объяснил, почему работать хочу, и он меня крепко ругал и велел Андрею Степановичу письмо писать, только я ещё не надумал. Напиши мне. Пашка, ездите ли рыбалить? Здесь тоже озеро в лесу, а у перегона речка, кто на пути работает, в перерыв купаться бегают. А ещё у нас…»
Максимка писал с увлечением, не замечая ошибок и не думая о них, слова торопили его, и не было им ни удержу, ни конца…
* * *
Так началась для Максима Руднева новая, полная неожиданных тревог и радостей, самостоятельная жизнь.
С начала «окна» на перегоне Слезнёво — Разъезд 382, где ремонтировала путь шестьдесят седьмая путевая машинная станция, прошло два с половиной часа. До конца «окна» оставалось столько же: ровно в двенадцать часов диспетчеру на Слезнёве должны были сообщить, что перегон открыт. Тогда по сменённому пути пройдёт первый состав.
А над лесом, загораживая половину неба, поднималась тяжёлая, грозовая туча. Ветер, подгонявший её, сметал с насыпи просохший песок и мелкую пыль и слепил глаза. Работали молча, прислушиваясь к неясному бормотанию грома.
Старые рельсы были сдвинуты на шпалах и схвачены скобами. К началу участка, пятясь, подошёл паровоз. К нему прикрепили рельсы, и они с шуршанием уползли за паровозом, прямо по шпалам к станции. А потом и шпалы были сброшены в кювет. Среди леса зачернела оголённая, расчерченная следами старого балласта насыпь. Но вот сигнальщица в головной бригаде взмахнула флажком. Громкоговоритель передал по перегону сигнал: от Слезнёва на соседнюю колею паровоз подводил новую машину — путевой струг. Издали она была похожа на второй маленький паровоз.
От струга бесшумно отошло, развернулось и перекинулось к оголённой колее большое и острое, как гигантский нож, металлическое крыло. Оно тяжело опустилось коснулось насыпи и зарылось в балласте. Потом медленно поползло за паровозом вдоль пути, срезая и вихрящимся веером отбрасывая в кювет грязный балласт.
Насыпь сразу посветлела, выровнялась, точно её прогладили огромным утюгом.
Теперь на неё можно было укладывать приготовленные шпалы, забрасывать свежий щебень и пришивать костылями новые рельсы. Бригады выстраивались вдоль пути.