Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [104]
Публичность, доходящая до театральности, — важнейшая черта поведения Федора Павловича. Рассказчик, повествующий о жизни Карамазова, отмечает не только шумный характер оргий в его доме, но и «странное» желание Федора Павловича известить весь город о сомнительных обстоятельствах своей семейной жизни:
Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну…
Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль… ‹…›
Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный, говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: «Ныне отпущаеши» (XIV, 9).
О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу (XIV, 14).
«Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы довольны несмотря на всю вашу горесть», — говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения (XIV, 9).
Из приведенных примеров видно, что публичное поведение Федора Павловича имело характер шутовства и, как он сам его определяет, «юродства» («Я шут коренной, с рождения, все равно, ваше преподобие, что юродивый». — XIV, 39). И если для других героев романа «он был только злой шут и больше ничего», то Алексей Карамазов понимает, что шутовство его отца носит сложный характер («Алеша, веришь, что я не всего только шут? — Верю, что не всего только шут». — XIV, 123). Амбивалентность шутовства Федора Павловича состоит в том, что оно может выражать неприятную правду и быть направлено не только против персонажей, которые, как Миусов, например, представляют в романе ложные с авторской с точки зрения ценности, но и на явления, которые находятся за пределами романа[744] и ассоциативно связаны с пушкинской эпохой.
Характерным примером такой «затекстуальной» связи может служить следующее высказывание Карамазова: «…я хоть и шут и представляюсь шутом, но я рыцарь чести и хочу высказать. Да-с, я рыцарь чести» (XIV, 82). Сочетание мотивов шутовства и «рыцарственности», значимое для всей сцены в монастыре, окрашивает ее в условные, почти оперные тона и придает «феодальный» колорит стилю, в котором Федор Павлович выражается, выдерживая его на протяжении всего этого микросюжета. При этом самохарактеристика старшего Карамазова «Да-с, я рыцарь чести…» восходит как к любимому Достоевским стихотворению Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…», так и к лермонтовской «Смерти поэта», где «невольником чести», как известно, назван сам Пушкин.
«„Рыцарем“ (вар.: „витязем“) горестной фигуры» был назван сам Достоевский в злом стихотворении И. С. Тургенева, озаглавленном ‹Послание Белинского к Достоевскому›:
Интересно и символично, что противостояние между Достоевским и людьми сороковых годов, перерастая в его противостояние с шестидесятниками, сохраняет свою соотнесенность с пушкинской поэзией. Причем главным инструментом этой соотнесенности остается пародия: Тургенев пародирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный…», Достоевский пародийно использует пушкинскую биографию и творчество, чтобы из сниженных элементов пушкинианы своего времени построить образ Федора Павловича Карамазова.
Особенно богата пушкинскими аллюзиями, пропущенными через призму шутовства старшего Карамазова, история второго брака Федора Павловича. Так, рассказ о том, как он доводил до экстаза мать Алеши, обладавшую «феноменальным смирением», имеет параллель с пушкинским стихотворением «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…»: оно тоже о том, как опытный сладострастник возбуждает в «смиреннице» ответную страсть:
Ср.:
Я твою мать покойницу всегда удивлял, только в другом выходило роде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то наступит, — вдруг пред нею так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее всегда, всегда, — помню это как вот сейчас, — до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, не громкого, нервного, особенного (XIV, 126).
Достоевскому стихотворение могло быть известно по публикации Геннади в 1859 году (III, 1203). Отмеченная параллель может как свидетельствовать о том, что пушкинское стихотворение явилось источником монолога Карамазова-старшего, так и указывать, что пушкинские тексты служили до определенной степени строительным материалом, из которого писатель создавал монолог своего героя: прием, который Достоевский использует не раз. Так, из поэтических цитат в форме палимпсеста построен монолог Дмитрия Карамазова в главе «Исповедь горячего сердца. В стихах».

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
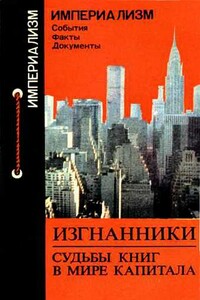
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
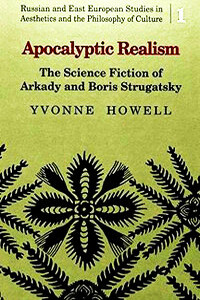
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.