Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [100]
Ни в каком другом произведении профетическая позиция Пушкина не проявилась с такой полнотой, как в «Медном всаднике», поскольку никогда ранее поэт не ставил перед собой задачу такого масштабного влияния на императора. Речь шла ни больше ни меньше как об изменении официального взгляда на Петра. Удивительнее всего то, что, несмотря на всю сложность этой задачи, Пушкин был почти уверен в успехе, который прежде всего состоял бы в том, что царственный цензор пропустил бы поэму в печать. Уверенность Пушкина в этом была столь велика, что он, не дожидаясь решения императора, договорился с книгоиздателем Смирдиным печатать «Медного всадника» полностью в первом номере нового журнала «Библиотека для чтения». Другим доказательством уверенности Пушкина в том, что «Медный всадник» разрешат, было включение поэмы в план очередного издания его сочинений[706]. Уверенность поэта в положительном отношении монарха к «Медному всаднику» основывалась, как нам представляется, на его вере в то, что переоценка личности Петра должна стать важной задачей новой государственной идеологии — ориентированной на создание национального государства и воплощенной в уваровской формуле. Вера эта основывалась на доверительных отношениях, которые, как казалось Пушкину, существовали между ним и императором.
Пушкин ошибся, как всегда переоценив степень этой доверительности. Император поэму не пропустил, причем его неблагосклонное внимание привлекло именно то в «Медном всаднике», что определяло переоценку Петра в контексте библейской образности. Ему не понравилось, что его «пращура» Пушкин называл «медным идолом», «горделивым истуканом» и «кумиром». И конечно, неприятие вызвала сцена бунта[707]. Можно сказать, что император оказался тонким и проникновенным читателем пушкинской поэмы и увидел в ней то, что не разглядели многие современники[708]. Он распознал и стремление Пушкина занять по отношению к нему профетическую, в данном случае учительскую, позицию. Раздражение Николая привело к тому, что император разрушил хрупкий союз, сложившийся к этому времени между ним и поэтом.
Император сделал Пушкина камер-юнкером. Смысл этого поступка состоял в том, что царь захотел перевести свои взаимоотношения с Пушкиным в совершенно формальные и пресечь дальнейшие претензии поэта на профетизм. Характерно, что вскоре после этого Пушкин получил «право», которого до тех пор напрасно добивался, а именно обращаться со своими произведениями в обычную цензуру. Император сложил с себя полномочия цензора немедленно по прочтении «Медного всадника»: 10 декабря 1833 года рукопись с высочайшими замечаниями возвращается Бенкендорфу, а 11 декабря шеф жандармов, возвращая рукопись Пушкину, сообщает поэту, что ему теперь можно публиковать свои сочинения после рассмотрения их общей цензурой (XV, 214).
Реакция Пушкина на «милость» царя хорошо известна, он был предельно оскорблен («Брат мой ‹…› впервые услыхал о своем камер-юнкерстве на бале у графа Алексея Федоровича Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт…» — записал Я. П. Полонский рассказ Л. С. Пушкина[709]). Пожалование нового чина было непрошенным и неожиданным[710]. Все присуждения новых чинов делались традиционно к 6 декабря, ко дню именин императора, тогда как Пушкин был пожалован отдельно именным указом царя от 31 декабря[711]. Это было новостью для министра двора, князя П. М. Волконского, в чье ведомство Пушкин отныне поступал[712]. Это стало шокирующей неожиданностью для общества[713].Чувство горечи определялось вовсе не стремлением Пушкина к более высокому чину, а пониманием того, что, делая его камер-юнкером, царь отказывал ему в праве на диалог. Пророк, то есть учитель и советчик, не может быть камер-юнкером. Кроме того, потерпела крушение еще одна биографическая претензия Пушкина: играть при Николае ту же роль, которую при Александре играл Карамзин[714]. Как мы помним, само назначение поэта на должность историографа было воспринято современниками как утверждающее преемственность Пушкина по отношению к Карамзину. Камер-юнкерство же делало параллель Карамзин — Пушкин невозможной, поскольку все помнили, как высоко император Александр оценил творческие заслуги Карамзина, присвоив ему чин действительного статского советника и наградив орденом Анны I степени. Это стало центральным сюжетом общедоступной биографии Карамзина[715]. Узкий круг друзей, не умаляя значения пожалованных историку чинов, хорошо знал о нелицеприятном характере бесед Карамзина с императором Александром. Н. И. Тургенев утверждал, что Карамзин был единственным русским человеком, от которого император был готов слушать правду[716].
Присуждение Карамзину высокого чина и ордена было воспринято обществом как признание за ним со стороны императора Александра права говорить неприятную правду. Камер-юнкерство преследовало обратную цель, Пушкину указали на его место, и это было отнюдь не место пророка, собеседника, равного императору.

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.
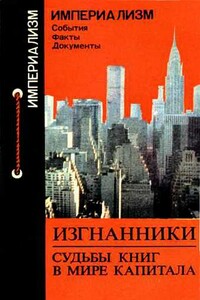
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
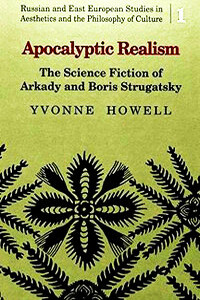
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.