Прощание с ангелами - [139]
Макс взял руку стоящего рядом Франца и пожал ее, но мальчик не ответил на пожатие.
«Ты здесь, Франц, но ты к нам не вернулся. Ты как мертвец среди нас. Тело твое здесь, но душа и мысли далеко».
Макс повернул голову и взглянул на Франца. Тот не сводил глаз с укрытого цветами гроба, который покоился на двух досках, переброшенных через вырытую могилу.
Патер дал мертвой последнее благословение и окропил ее святой водой. Мужчины подошли к могиле, чтобы опустить туда гроб. Упершись ногами в комья глинистой земли, они медленно выпускали из сжатых рук широкие лямки. Requiescat in pace[21].
Франц вырвал свою руку из дядиной и отошел. Вереница дефилирующих мимо разверстой могилы — троекратное посыпание ее землей, несколько секунд отмеренной задумчивости, рукопожатие и неразборчивые слова, долженствующие изображать соболезнование, — он не мог это вынести. Скорбь, любопытство, лицемерие — на всех лицах одно выражение, казалось ему.
Что о нем подумают, его не волновало. Он хотел остаться один.
«У меня умерла мать».
Этим он отгородился, этим отбивал всякую попытку подойти ближе. Начиная с Халленбаха. Он сделал то, что ему оставалось, он в ту же ночь, после телеграммы, уложил свои вещи.
«К чему тебе столько вещей? Так долго мы все равно не сможем остаться».
«Ты тоже едешь?»
«Разумеется».
И только когда дядя Томас сказал это, Франц понял, что предпочел бы уехать без него. Почему — он и сам не знал. Может, потому, что хотел один вернуться туда, откуда пришел. Ему казалось, что дядя Томас главным образом ради него едет в Лоенхаген, чтобы целым и невредимым вернуть его после похорон в лоно социализма. Все в нем восставало против этой ненужной заботливости. То, что ему предстояло сделать, он хотел сделать один. Не осталось моста, через который можно ходить туда и обратно по собственной прихоти. Необратимой, как смерть матери, стала необходимость высказаться за одно или за другое, за «здесь» или за «там».
«Знаешь, Франц, если всю жизнь пролежать в ящичке до востребования, дожидаясь, когда разрешат перейти из одной эпохи в другую, можно потерять и свой человеческий характер и свою человеческую ценность».
Это сказал ему дядя Томас в вагоне скорого поезда, когда они вдвоем стояли в коридоре.
«Так вот почему ты потащился за мной».
«Почти все важное в своей жизни я проделывал дважды, сперва неправильно, потом правильно. Таким способом можно проморгать всю жизнь. Ибо времени, нам отпущенного, не хватает на столь сложный путь. И поэтому каждому из нас потребен опыт других людей да еще немного доброй воли и доверия».
Удалившись от могилы, Франц вышел в широкую тополевую аллею. Небо над ним протянулось голубой дорогой, широкой, как аллея. Солнце захватило небеса в безраздельное пользование и оделило своим теплом решительно все — могилы, тропинки, тополя, голоса птиц, прощание. Франц осознал: ничто не повторяется, а жизнь — это непрерывное прощание. Здесь и там. Жизнь перестала быть для него игрой, попыткой, приключением, вызовом.
«Я эти фокусы знаю, служка».
«Ничего ты не знаешь, Берто».
«Не будь обезьяной, служка».
«Метаморфоза, естественная для гомо сапиенс. Социализм победит».
«Ай да служка. Разве что с помощью Неккермана».
«Помяни мое слово, архангелы еще будут петь „Интернационал“».
«Я тебе сколько раз говорил: подвергни себя психоанализу».
«Знаешь, Берто, у твоих острот есть один недостаток: они повторяются».
Уклоняться далее было невозможно. Сегодня вечером Томас уезжал в Халленбах, и Францу надлежало принять решение.
Он остановился, еще раз поглядел на березу, под которой лежала его мать. Почему ты это сделала? — подумал он. И еще он подумал: а что ей оставалось делать, чтобы сберечь хоть остатки достоинства? Только одно он не мог ей простить, ни живой, ни мертвой: как она могла связаться с этим мелким, ничтожным человеком и даже продать ему свою дочь? Жаль, что ей не суждено услышать, как рьяно этот тип заверяет всех и каждого, что он ни капельки не виноват.
«Понимаешь, Франц, я сказал ей, что вернусь в десять, но ты ведь знаешь, как иногда получается…»
«Ты не вернулся?»
«Нет, не мог же я знать, что она…»
«Что не мог?»
«Ну, знать, что она так поступит».
Францу подумалось, что в глубине души Ганс рад-радехонек избавиться от нее. Конечно, если на нем де останется пятна.
«Я не виноват».
С души воротит от этих заверений.
«Тебе неловко, я понимаю, тебе до чертиков неловко. Люди всякое говорят».
Франц видел, как отходят люди от могилы его матери. Он пошел дальше, он не хотел ни с кем встречаться. Нам вечно не хватает времени, подумал он. Ах, если бы ей подождать еще немного. Но до каких пор ждать? И чего ждать?
Он вышел с кладбища, взял такси и поехал в клинику к Ханне.
Лучи солнца падали в яму на крышку гроба. Томас подошел к Максу и, остановись у края могилы, поднял горсть земли и бросил ее на гроб. Вот что осталось от Анны. Нечто, к чему гадко прикоснуться, отталкивающая маска с сине-красными пятнами, с холодными синими губами, которые вдруг так высохли, что даже не закрывают зубы.
«Все мы чада Христовы».
У могилы Анны эта фраза внезапно поднялась из глубин памяти, и Томас взглянул на Макса — тот стоял рядом, стоял измученный, старый, опустив голову. А вслед за фразой всплыл и тот день, когда все они, вся семья последний раз собирались вместе: в церкви Св. Духа, убогой церковке для бедных в Забже. Макс служил свою первую мессу. Отец, Герберт, Анна, мать, он — вся семья преклоняла колени на второй скамье. Анна глядела на Макса, как можно глядеть на короля. Она впитывала каждое слово его проповеди, вся отдавалась ей, хотя Макс был не бог весть какой оратор, говорил темно и сбивчиво, по нескольку раз повторял одну и ту же фразу, словно боялся потерять нить: «Все мы чада Христовы». Он стоял спиной к алтарю, сложив руки на груди и спрятав их в просторных рукавах стихаря, Стоял, изнуренный занятиями и упражнениями, с пылающим лицом и красными, чуть оттопыренными ушами, и говорил слишком тихо для заполнивших церковь людей, которые ради него и пришли сюда, не столько из уважения, сколько из любопытства. Анна всю жизнь сама себя обманывала. Она уже тогда пыталась воспринимать свои мечты и замыслы как реальную данность. Быть может, смерть явилась для нее первым откровением. Вот только цены это уже никакой не имело.

Россия, наши дни. С началом пандемии в тихом провинциальном Шахтинске создается партия антиваксеров, которая завладевает умами горожан и успешно противостоит массовой вакцинации. Но главный редактор местной газеты Бабушкин придумывает, как переломить ситуацию, и антиваксеры стремительно начинают терять свое влияние. В ответ руководство партии решает отомстить редактору, и он погибает в ходе операции отмщения. А оказавшийся случайно в центре событий незадачливый убийца Бабушкина, безработный пьяница Олег Кузнецов, тоже должен умереть.

Ремонт загородного домика, купленного автором для семейного отдыха на природе, становится сюжетной канвой для прекрасно написанного эссе о природе и наших отношениях с ней. На прилегающем участке, а также в стенах, полу и потолке старого коттеджа рассказчица встречает множество животных: пчел, муравьев, лис, белок, дроздов, барсуков и многих других – всех тех, для кого это место является домом. Эти встречи заставляют автора задуматься о роли животных в нашем мире. Нина Бёртон, поэтесса и писатель, лауреат Августовской премии 2016 года за лучшее нон-фикшен-произведение, сплетает в едином повествовании научные факты и личные наблюдения, чтобы заставить читателей увидеть жизнь в ее многочисленных проявлениях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
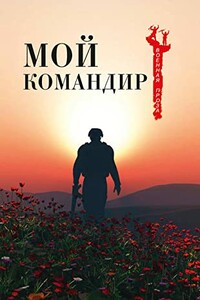
В этой книге собраны рассказы о боевых буднях иранских солдат и офицеров в период Ирано-иракской войны (1980—1988). Тяжёлые бои идут на многих участках фронта, враг силён, но иранцы каждый день проявляют отвагу и героизм, защищая свою родину.
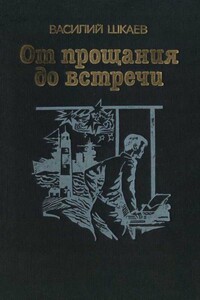
В книгу вошли повести и рассказы о Великой Отечественной войне, о том, как сложились судьбы героев в мирное время. Автор рассказывает о битве под Москвой, обороне Таллина, о боях на Карельском перешейке.

В повести «Ана Ананас» показан Гамбург, каким я его запомнил лучше всего. Я увидел Репербан задолго до того, как там появились кофейни и бургер-кинги. Девочка, которую зовут Ана Ананас, существует на самом деле. Сейчас ей должно быть около тридцати, она работает в службе для бездомных. Она часто жалуется, что мифы старого Гамбурга портятся, как открытая банка селёдки. Хотя нынешний Репербан мало чем отличается от старого. Дети по-прежнему продают «хашиш», а Бармалеи курят табак со смородиной.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…