Прощание из ниоткуда. Книга 2. Чаша ярости - [90]
В день его отъезда тетка Люба слонялась по дому, как потерянная, деньги за постой отказалась брать наотрез, а прежде чем выйти проводить гостя, поставила перед ним на стол бязевый мешочек с сушеными грибами:
— Не обессудь, гостюшка, нёчём мне тебя больше одаривать, чем богати, тем и ради, кушай на здоровье, по-минай тетку Любу, а я тебя в молитвах своих поминать стану, жалко мне тебя, ох как жалко!
А почему „жалко” так и не сказала, вздохнула только задумчиво и протяжно.
У самой почти пристани их нагнал Васек. Попыхтел, поприплясывал сбоку нетерпеливо, потом засмущался, по привычке заглядывая в глаза:
— Алексеич, может, расходную, а, по маленькой, больше ведь не свидимся, а я, по правде, привык? — Он выпростал из брючного кармана свою неизменную четвертинку. — Давай, Алексеич, ты перьвый, по старшинству.
Когда горькая влага обожгла Владу грудь, он не выдержал, притянул к себе льняную васькину голову, приник к ней щекой, забылся:
— Прощай, Васек, прощай, дорогой, и куда только меня черт несет, сам не знаю!..
Стоя на палубе рейсового паровичка, Влад прослеживал медленно ускользающие от него и устремленные ему вслед лица, в тщетном усилии запомнить их, навсегда запечатлеть в памяти: „Господи, Господи, Господи, куда я от них, зачем!”
Как-то вскоре после той поездки один извивчивый, но, в общем-то, сносный прозаик рассказывал ему:
— Съездил я недавно к отцу в Америку. В былые вре-. мена, сам знаешь, в каком страхе жили, я его у себя в анкете в герои гражданской войны записывал, что, по правде говоря, было недалеко от истины, только я не уточнял под какими знаменами, а когда помягчело в наших краях, уточнил: под колчаковскими. И доживает теперь свой век на пенсии в Сан-Франциско. Можешь себе представить, никаких последствий сие открытие наверху не вызвало. Скорее наоборот: стоило мне только заикнуться насчет поездки, полное взаимопонимание, даже подталкивали, не мешкайте, мол, отец ваш человек немолодой, в любую минуту может концы отдать, пусть, мол, хоть сына увидит перед смертью. Ясно, что карту патриотизма принялись разыгрывать, а мне плевать на их дипломатию, мне лишь бы съездить. Поездка была, доложу я тебе, по высшему классу, жил, как у Бога за пазухой, только птичьего молока не видел, барахла привез, мои бабы до сих пор приторговывают. Страна такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать, живут будто при коммунизме: от каждого по труду, каждому — по потребности, устроились, сукины дети, все механизировали, пешком даже в сортир не сходят. Вернулся домой, несколько дней в себя прийти не мог, решил в деревню съездить, родным дерьмом подышать. Я ведь, знаешь, под Рязанью сруб купил деревенский, люблю иногда, так сказать, поработать на лоне. Деревни там сейчас обезлюдели, дом за копейки взять можно. По приезде вышел утром поразмяться, гляжу, сидит на бревнах у магазина сторож дядя Федя — мужичок даже по здешней бедности из нищих нищий — сидит он это в заношенной своей рванине, раздрызганный треушок набекрень, козью ножку потягивает, видно, уже и опохмелиться успел, в общем, как в народе говорят: сыт, пьян и нос в табаке. „Здорово, — говорю, — дядя Федя!” — „Наше вам, — говорит, — Егор Петрович! Слыхал, в самой Америке гостевали?” — „Гостевал, — говорю, — дядя Федя”. — „И что, — спрашивает, — нишших много?” — Как видишь, прав Маяковский: у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Мудёр русский народ, ох как мудёр!..
Его дорога домой походила на пробуждение от хвори. Душа Влада как бы заново прорастала к свету после ночи бредового забытья. Благодарная легкость в нем сообщала всему окружающему — людям, предметам, панораме за вагонным окном — какую-то особую, почти стереоскопическую рельефность. Подмывало, зажмурив глаза, что-то беспечно напевать себе под нос или говорить с кем-нибудь о пустяках.
Но двум теткам, походившим друг на друга, словно пара матрешек одного размера — распахнутые на плечах пуховые, серого цвета платки, простоволосые головы, коротконосые, с нездоровой отечностью, лица, — было не до его состояния или, тем более, его разговоров.
— Ах, Нюрок, — жаловалась одна, — иде их теперь, женихов-то, искать, оне усе хто пьеть, хто за длинным рублем шастает, хто на шею кому сесть норовит, а наш-то этот — сурьезный, пьеть по маленькой, курить в меру, на производстве в уважении, а что старше Нинки да страшен, так не с лицом жить, с лица не воду пить, сживется — слюбится…
— Твоя правда, подружка, — вторила ей собеседница, — где уж таперича честной девушке королевича ждать, нету их нынче, королевичей-то, вывелись, бери, что с краю попадется, а не то в вековухах останешься.
— И то.
— Верно говорю.
— И еще тебе скажу, Нюра милая…
Под их беспрерывный говорок Влад и скоротал остаток дороги, вспомнив к месту, уже на подъезде к Москве, старый анекдот о двух женщинах, посаженных на год в одну камеру за драку между собой, у которых по выходе еще было, о чем договаривать с полчаса около ворот тюрьмы.
„Я научила женщин говорить, — выходя из вагона, процитировал он про себя Ахматову, — о Боже, кто их замолчать заставит!”
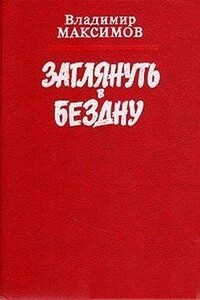
Роман о трагической любви адмирала Александра Васильевича Колчака и Анны Васильевной Тимиревой на фоне событий Гражданской войны в России.
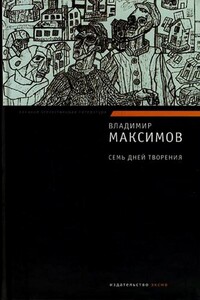
Владимир Максимов, выдающийся писатель «третьей волны» русского зарубежья, основатель журнала «Континент» — мощного рупора свободного русского слова в изгнании второй половины XX века, — создал яркие, оригинальные, насыщенные философскими раздумьями произведения. Роман «Семь дней творения» принес В. Максимову мировую известность и стал первой вехой на пути его отлучения от России. В проповедническом пафосе жесткой прозы писателя, в глубоких раздумьях о судьбах России, в сострадании к человеку критики увидели продолжение традиций Ф.

Роман «Прощание из ниоткуда» – произведение зрелого периода творчества известного русского прозаика, созданный в 1974 – 1981 годы, представляет собой своеобразный итог «советского периода» творчества Владимира Максимова и начало новых эстетических тенденций в его романистике. Роман автобиографичен, сила его эмоционального воздействия коренится в том, что читателю передаются личные, глубоко пережитые, выстраданные жизненные впечатления, что доказывается самоцитацией автора своих писем, статей, интервью, которые он вкладывает в уста главного героя Влада Самсонова.

Эту книгу надо было назвать «Книгой неожиданных открытий». Вы прочитываете рассказ, который по своим художественным достоинствам вполне мог принадлежать перу Чехова, Тургенева или Толстого, и вдруг с удивлением сознаете, что имя его автора вам совершенно незнакомо… Такова участь талантливых русских писателей – эмигрантов, печатавших свои произведения «на Чужбине», как обозначил место издания своих книг один из них.В книгу вошли также короткие рассказы таких именитых писателей, как Алексей Ремизов, Иван Шмелев, Евгений Замятин, Федор Степун, Надежда Тэффи.

Владимир Емельянович Максимов (Лев Алексеевич Самсонов) — один из крупнейших русских писателей и публицистов конца XX — начала XXI в. В 1973 году он был исключен из Союза писателей Москвы за роман «Семь дней творения». Максимов выехал во Францию и был лишен советского гражданства. На чужбине он основал журнал «Континент», вокруг собрались наиболее активные силы эмиграции «третьей волны» (в т. ч. А. И. Солженицын и А. А. Галич; среди членов редколлегии журнала — В. П. Некрасов, И. А. Бродский, Э. И. Неизвестный, А. Д. Сахаров). После распада СССР В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В подборке рассказов в журнале "Иностранная литература" популяризатор математики Мартин Гарднер, известный также как автор фантастических рассказов о профессоре Сляпенарском, предстает мастером короткой реалистической прозы, пронизанной тонким юмором и гуманизмом.
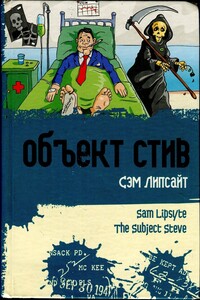
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».