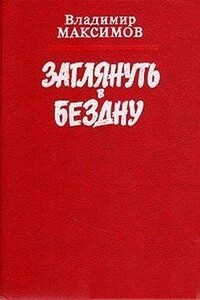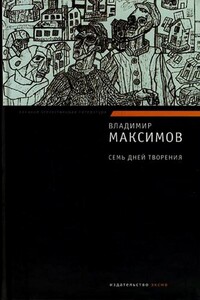1
Итак, пойдем дальше, золотой мой, посеребренный, пойдем дальше, только не оглядывайся, изойдешь слезной солью где-то над пропастью Чопа!
Из мира в мир, из одного измерения в другое, из ниоткуда в никуда, в отрезок времени достаточный, чтобы вместить в себя как вдох и выдох, так и целую вечность, переносится душа твоя за кудыкины горы чужбины.
И вот уже под крылом самолета, сквозь разрывы облачной пены, потекла перед глазами эта чужбина, вся в росчерках дорог и перелесков, разреженных карточной россыпью пестрых застроек.
Вроде бы ничего не изменилось вокруг него — тот же воздух, те же лица, та же речь, — но внутри что-то вдруг как бы надломилось, треснуло, оборвалось, обнажив потаенную, но уже не способную отныне уняться боль. Его властно потянуло вскочить и сломя голову ринуться по проходу туда, в хвост гудящей машины, в беспамятном порыве дотянуться до запретной черты и попробовать переиграть судьбу.
Но вместо этого Влад лишь сдавленно выдохнул вслед проходившей мимо стюардессе:
— Девушка, выпить бы…
А под крылом плыла и плыла чужая земля, и не было ей теперь ни конца, ни края…
2
„Мело, мело по всей земле, во все пределы…”. Мело во все пределы и закоулки Москвы начала зимы тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В снежной замяти город гляделся, словно смутный чертеж или беспорядочный набросок углем по белому холсту февральской стужи. И Влад стремглав ринулся в эту стужу, и она, посвистывая, понесла его сквозь путаницу завьюженных переулков к ближней окраине с птичьим названием — Сокольники.
Город сейчас проносился в нем, а не вовне, отмечаемый сквозь снежное кружево не зрением, но памятью: дом Утесова на углу Красноармейской и Краснопрудной, магазин „семьдесят пятый” возле Леснорядского рынка, таящего в себе соблазны его голодного детства, пивная у ликеро-водочного чьего-то, уже забытого теперь имени, кинотеатр „Молот” и, наконец, шестьдесят пятое отделение милиции, откуда, если пересечь наискосок Маленковскую, начиналась тянувшаяся за ним по пятам через всю выпавшую ему на долю жизнь улица — Владова сказка, Владова боль, Владова тоска и ноша.
Когда же Влад свернул на нее, эту улицу, ноги его сделались ватными, а душа зашлась от обморочного изнеможения. Сколько раз, загибаясь внутри „собачьих ящиков” скоростных экспрессов, на липких нарах пересылок и в скрипучих койках психбольниц, он представлял себе, как явится сюда, как пройдет немощеным тротуаром мимо своего прошлого и как оно — это прошлое — сомкнется вокруг него, словно забытый сон в гулком зале стерео кинематографа. Воистину: не заглядывай подолгу в пропасть — или пропасть заглянет в тебя!
Здесь, если подытожить все, каждый шаг был отмечен памятным ему случаем или событием: угловая булочная, где в душных очередях карточной поры он упоенно вынянчивал свои мечты об иных землях и другой судьбе; замшелая, в бурой цепочке себе подобных, коробка двухэтажного барака, в котором, под гостеприимным кровом семьи детского дружка Сережки Забрудина, его угощали пирогами из отрубей с неизменным привкусом керосина; огромный пень от старого тополя у забора ситценабивной фабрики, того самого тополя, что чуть не свалился на него в раннюю грозу двадцатилетней давности, и сразу вслед за этим, через дорогу, уличное колено, откуда раскатились во все стороны Владовы мандарины в то декабрьское утро отцовского возвращения, с какого закружилась его судьба в яростной карусели давнего российского лихолетья. Сколько нас…
Проезжее русло Митьковки, втекавшее на другом конце прямо в ворота Сокольнического парка, в обрамлении заснеженных тополей и разногорбых сугробов, вытянулось перед Владом, и тут же сквозь время и явь, через годы и тление пробился к нему острый запашок помеси прелой рогожи с гашеной известкой, связанный в его детстве с возведением пристройки к дворницкой для Владова покровителя — дяди Саши.
К дому Влад подходил, не чуя под собой земли. Казалось, от него отлетели возраст и опыт, возвращая его в ребяческую ипостась. Он вдруг ощутил себя тем самым Владькой Самсоновым, который только что выбежал на улицу, скрываясь от коммунального крика и материнских нравоучений, тягуче вязавшихся следом за ним…
— Владька, Владька, чего из тебя получится, не сносить тебе головы рано или поздно, совсем от рук отбился, хоть в колонию отдавай, соседи и без того зубы точат, от тебя ведь проходу никому нет, а дома покою. Возьмись за ум, Владька, завтра поздно будет, пожалей мать свою старую, одна она у тебя, куда вот тебя опять несет в такую погоду, чего тебе дома не сидится?.. Куда?..
Двор проплыл мимо него завьюженный и тихий, с редкими вкраплениями огоньков в обмороженных окнах, проплыл, словно громоздкий ковчег в снежной пене зимнего моря, нагруженный множеством теней прошлого и теплым биением животворящей плоти. Плыви, мой челн. По воле волн. Куда несет тебя судьба. Будет буря, мы поспорим. И далее, со всеми остановками.
Лишь миновав пространство между воротами родного двора и соседними, он, будто внезапно выброшенный из жаркого сна в студеную явь, вдруг почувствовал холод. Его сугубо южная одежонка оказалась явно неприспособленной к колючей температуре столичного декабря: уши и ноги у него одеревянели, и сам себе он казался сейчас еле теплящимся обрубком, все убывающим с каждым шагом в размерах.