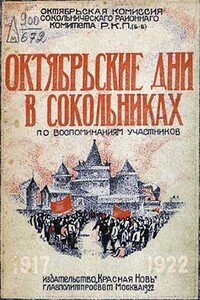Прометей, том 10 - [49]
Можно думать, что Вяземский не случайно обращает внимание на высказывание Н. И. Тургенева о книге Босвела в то время, когда им вынашивался замысел биографии Фонвизина. Скорее всего труд Босвела служил ему образцом: в конце 1820-х годов Вяземский настойчиво и старательно добывает от современников устные сведения о Фонвизине. Законно предположить, что Пушкин и Вяземский беседовали об этой книге в связи с общими проблемами историко-биографического жанра, и, в частности, по поводу «Фонвизина». Ведь биография Джонсона, написанная Босвелом, была наглядным доказательством возможности расширить рамки биографии как жанра, заменить традиционное однолинейное изображение выпуклым, объёмным жизнеописанием. Именно по этому пути пошёл Вяземский в биографии Фонвизина, именно за это и ценил в первую очередь его книгу Пушкин.
Во всём ли Пушкин был согласен с Вяземским? Нет, не во всём. Многие пометы Пушкина, относящиеся к заграничному путешествию Фонвизина, остро полемичны, и хотя в них идёт речь о событиях второй половины XVIII века, тем не менее все они непосредственно соотносятся со спорами внутри пушкинского круга в начале 1830-х годов. События того времени (поражение декабристов на Сенатской площади, польское восстание 1830—1831 гг.) толкали передовую русскую мысль на осмысление кардинальных вопросов развития России. Это был трудный путь раздумий и ожесточённых дискуссий. Обострение внешнеполитических отношений, вызывавшее у Пушкина даже опасение новой интервенции западных держав, придало напряжённый характер разгоравшимся спорам. Пушкин придерживался «русофильской» позиции в противовес Вяземскому и особенно А. И. Тургеневу, отстаивавшим «западническую» ориентацию. Вспоминая об этих спорах, Вяземский писал в «Автобиографическом введении», что Пушкин, «хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы, то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую»[293].
Споры эти развёртывались на протяжении 1830—1832 годов, достигнув кульминации после выхода стихотворения «Клеветникам России». Отрицательный отзыв Вяземского и А. И. Тургенева об этих стихах хорошо известен. Свидетельства Вяземского и А. И. Тургенева, удостоверяющие самый факт разногласий и «русофильства» Пушкина, «громившего Запад», небезынтересно сопоставить с дневником Н. А. Муханова за 1832 год. 29 июня он записал, что во время посещения Вяземского встретился у него с Пушкиным и беседовал с последним о новейшей французской литературе: «Я спросил мнения его о Дюмоне, которого ещё не читал. <…> Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор, в коем я, хотя не читал Дюмона, но совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старается похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни, и потому весьма интересен, что Jules Janin врёт, что французы презрительны, что таланта истинного у них нет, что лучшие их таланты не французы, что Мирабо не француз, что Journal des Débats нельзя принимать за мнение всей Франции и что её мнение даже неважно и проч. Спор усиливался»[294].
Швейцарский публицист Пьер-Этьен-Луи Дюмон (1759—1829) в молодости жил в России (в 1782—1783 гг. был священнослужителем в Петербурге), затем уехал в Англию, а в начале Великой французской революции переехал в Париж, где сблизился и сотрудничал с Мирабо; в 1791 году снова уехал в Англию, где стал секретарём и переводчиком английского правоведа и моралиста Бентама. В январе 1832 года в Брюсселе посмертно были изданы воспоминания Дюмона о Мирабо; в книжных лавках Парижа они появились в двадцатых числах января и сразу же вызвали разгромную рецензию французского писателя, журналиста и критика Жюля Жанена. Три месяца спустя в той же газете появилась вторая рецензия Жюля Жанена на книгу Дюмона. Подчёркивая, что французу Мирабо не подобало набираться ума у женевца Дюмона, Жюль Жанен заявлял, что после появления мемуаров Дюмона стало понятным, почему некоторые речи Мирабо обладают недостатками; разгадка в том, что в них «сердце, душа, ум женевский, английский, русский секретарей Мирабо».
Спор о книге Дюмона указывал на расхождения между Пушкиным и Вяземским в польском вопросе и в оценке французских событий 1830—1831 годов. Полемическая запальчивость объясняется как острейшим восприятием этих событий, так и конкретным поводом спора — декларативным утверждением национальной исключительности в статьях Жанена. Отсюда брошенные Пушкиным в пылу спора фразы: «французы презрительны», «лучшие их таланты не французы» и т. д. Во всяком случае, глава «Фонвизина» о заграничных письмах сатирика содержит внутреннюю полемику, даже не слишком завуалированную. Защищая французов от нареканий Фонвизина, Вяземский собирался привести цитату из мемуаров английского историка Гиббона, благосклонно отзывавшегося о парижанах. «Сам ты Гиббон», — размашисто надписал Пушкин на полях рукописи. Эта помета Пушкина крепко запомнилась Вяземскому. Почти полвека спустя в авторских вставках к «Автобиографическому введению» (не попавших в печатный текст) Вяземский писал: «В одном месте, где противополагаю мнение Гиббона о Париже и мнение Ф<он>-Визина, написал он <Пушкин> на рукописи моей: Сам ты Гиббон. Разумеется в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу. Известно, что Гиббон славился, между прочим, и

Находясь в вынужденном изгнании, писатель В.П. Аксенов более десяти лет, с 1980 по 1991 год, сотрудничал с радиостанцией «Свобода». Десять лет он «клеветал» на Советскую власть, точно и нелицеприятно размышляя о самых разных явлениях нашей жизни. За эти десять лет скопилось немало очерков, которые, собранные под одной обложкой, составили острый и своеобразный портрет умершей эпохи.

Воспоминания Владимира Борисовича Лопухина, камергера Высочайшего двора, представителя известной аристократической фамилии, служившего в конце XIX — начале XX в. в Министерствах иностранных дел и финансов, в Государственной канцелярии и контроле, несут на себе печать его происхождения и карьеры, будучи ценнейшим, а подчас — и единственным, источником по истории рода Лопухиных, родственных ему родов, перечисленных ведомств и петербургского чиновничества, причем не только до, но и после 1917 г. Написанные отменным литературным языком, воспоминания В.Б.

Результаты Франко-прусской войны 1870–1871 года стали триумфальными для Германии и дипломатической победой Отто фон Бисмарка. Но как удалось ему добиться этого? Мориц Буш – автор этих дневников – безотлучно находился при Бисмарке семь месяцев войны в качестве личного секретаря и врача и ежедневно, методично, скрупулезно фиксировал на бумаге все увиденное и услышанное, подробно описывал сражения – и частные разговоры, высказывания самого Бисмарка и его коллег, друзей и врагов. В дневниках, бесценных благодаря множеству биографических подробностей и мелких политических и бытовых реалий, Бисмарк оживает перед читателем не только как государственный деятель и политик, но и как яркая, интересная личность.
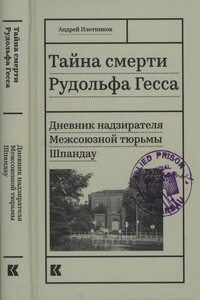
Рудольф Гесс — один из самых таинственных иерархов нацистского рейха. Тайной окутана не только его жизнь, но и обстоятельства его смерти в Межсоюзной тюрьме Шпандау в 1987 году. До сих пор не смолкают споры о том, покончил ли он с собой или был убит агентами спецслужб. Автор книги — советский надзиратель тюрьмы Шпандау — провел собственное детальное историческое расследование и пришел к неожиданным выводам, проливающим свет на истинные обстоятельства смерти «заместителя фюрера».

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.