Прометей, том 10 - [201]
и подумал: «Вот как игриво-весела эта невзрачная речонка в волшебных стихах поэта»[968].
Почему такая разница, почему для Фета Салгир — «невзрачная речонка», а у Пушкина эта река так «игриво-весела»? Да потому, что Фет на Салгир смотрел и писал о нём не в стихах, а в сугубо прозаических «Воспоминаниях», а Пушкин Салгир, точнее его наименование, слышал и писал о нём в действительно волшебных стихах, где по свойственной Пушкину любви к аллитерациям само звучание Салгира, все его согласные звуки: с, л, г, р — дублированы в «весёлых брегах» (с, л, р, г).
Дальний берег. Это словосочетание встречается у Пушкина неоднократно:
(«Что в имени тебе моём?..»)
(«Не пой, красавица…»)
(«Для берегов…»)
В последнем примере эпитет «дальний», собственно, относится к «отчизне», но «берега» и здесь соседствуют.
Интересно, что тот же эпитет «дальний» к «берегу» и в стихотворении «Незнакомка» Александра Блока:
Что у Блока здесь, вероятно, реминисценция из Пушкина, подкрепляется тем, что в этом же стихотворение Блока имеется ещё одно пушкинское словосочетание «очарованная даль».
У Пушкина —
(«Рифма, звучная подруга…»)
У Блока —
(«Незнакомка»)
В «Тарусских страницах» К. Г. Паустовский среди стихов Блока, которые «очень крепнут от времени и томят людей своими образами», указывает на стихи «И вижу берег очарованный и очарованную даль…» и «Очи синие бездонные цветут на дальнем берегу…»[969], а ведь и «дальний берег» и «очарованная даль» — образы, исконно пушкинские….
Очень часты у Пушкина эпитеты постоянные или прикреплённые, характерные для фольклорных жанров (былин, народных песен, сказок). Эти эпитеты являются скорее общими, чем индивидуализированными определениями. Таков, например, эпитет «кичливый» в отношении к «врагу». Ещё Ломоносов о врагах России писал, что у них «сердца кичливы» и «кичливый нрав» («Ода памяти Анны Иоанновны», 1739 г. и «Ода на рождение Иоганна III», 1741 г.). Этот эпитет к врагам России применяет и Пушкин неоднократно, безотносительно, кем бы враг ни был:
турок — Опять кичливый враг («Опять увенчаны мы славой»);
швед — …и легкомыслен и кичлив («Полтава»);
француз — Русь обняла кичливого врага («Была пора…»);
поляк — кичливый лях («Клеветникам России»).
Таким образом, эпитет здесь не выявляет специфической особенности врага, не служит указанием на особенности его национального характера, а является общим определением для любого врага, эпитетом, раз навсегда к нему прикреплённым[970].
Таковы же у Пушкина его эпитеты: «величавый» — к создателям трагедий, и «колкий» — к комедиографам.
(«Всё так же ль осеняют своды…»)
(«Евгений Онегин»)
Оба двустишия почти тождественны. Одинаковый эпитет — «величавый» — и для Эсхила и для Корнеля показывает, что это явно не индивидуальный для определённого поэта эпитет, а общий для любого трагика, будь они даже столь различны, как Эсхил и Корнель.
Ещё менее, чем Эсхил и Корнель, схожи Бомарше и Шаховской, но и они Пушкиным наделены одинаковым эпитетом: «колкий Бомарше» («К вельможе»), «колкий Шаховской» («Евгений Онегин»). Видимо, эпитет «колкий» для комедиографов у Пушкина столь же не индивидуализирован, как «величавый» для трагиков.
Аналогично у Пушкина и определение «певец любви», которым он наделяет и Овидия («К Овидию», «Цыганы»), и Вольтера («Монах»), и Шенье («Андрей Шенье»), и Батюшкова («К Батюшкову»), и Великопольского («С тобой мне вновь…»), и, наконец, просто соловья («Слыхали ль вы…»). Ясно, что названные поэты столь различны, что общее для них «соловьиное» определение («певец любви») никак не раскрывает индивидуальных особенностей поэзии каждого из них.
Порой, однако, тяготение Пушкина к постоянным эпитетам помогает нам раскрыть смысл некоторых стихов, как, например:
(«Птичка»)
К чему здесь относится эпитет «родной»: к обычаю или к старине? И то и другое правомерно. Вопрос этот решается сопоставлением с другими стихами Пушкина:
(«Влах в Венеции» — «Песни западных славян»)
Постоянных, или прикреплённых, эпитетов у Пушкина очень много. Некоторые из них являются своеобразными автоцитатами поэта.
Пушкин описывает последние минуты умирающего разбойника:
(«Братья разбойники»)
и умирающего Ленского:
(«Евгений Онегин»)
Описание в обоих случаях как будто сходное, и тут и там умирающего «взор изобразил…», но описание в «Евгении Онегине» словно полемизирует с описанием в «Братьях разбойниках», Пушкин как бы себя поправляет: взор не потухший, а туманный, и изображает смерть, а не муку. Описание в «Евгении Онегине» принадлежит уже зрелому мастеру и более реалистично и выразительно, чем в «Братьях разбойниках».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
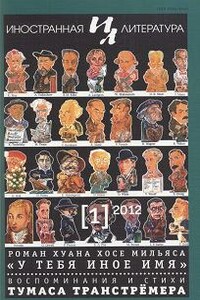
Первый номер журнала за 2012 год открывает подборка стихов и прозы (несколько новелл из автобиографической книги “Воспоминания видят меня” (1993)) последнего (2011) лауреата Нобелевской премии по литературе шведа Тумаса Транстрёмера(1931). Один из переводчиков и автор вступления Алеша Прокопьев приводит выдержку из обоснования Нобелевским комитетом своего выбора: эти“образы дают нам обновленный взгляд на реальность”. Справедливо:“Смерть – это безветрие”. Второй переводчик – Александра Афиногенова.
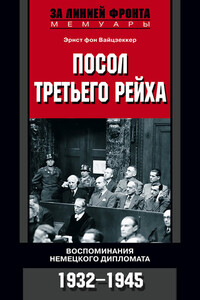
В книге представлены воспоминания германского дипломата Эрнста фон Вайцзеккера. Автор создает целостную картину настроений в рядах офицерства и чиновников высших государственных структур, а также детально освещает свою работу в Лиге Наций, ведет летопись постепенной деградации общества после победы Гитлера. Высказываясь по всем важнейшим событиям политической жизни, опытный дипломат дает яркие характеристики Риббентропу, Гессу, Гитлеру, с которыми близко общался; его точные зарисовки, меткие замечания и отличная память помогают восстановить подлинную атмосферу того времени.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

В книге секретаря ЦК ВСРП Я. Береца разоблачается роль империалистических держав, прежде всего США, и внутренней реакции в организации (под кодовым названием американских спецслужб – «операция “Фокус”») в 1956 г. контрреволюционного мятежа в Венгрии, показана героическая борьба сил социализма по разгрому контрреволюции. Книга написана на богатом фактическом и архивном материале. В качестве приложения публикуются некоторые документы и материалы, касающиеся событий того периода. Рассчитана на широкие круги читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.