Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [76]
Сочинися аки бы сам собою, за частое во священных псалмопениях упражнение, ими же богодухновенный царь Давид всевышнему Богу хвалу воспеваше и божественная прославляше благодеяния. Каковая и мне и фамилии моей от вышшаго онаго вседержителя и всестроителя, благотворительныя величества вашего и Петра Великаго руки употребившаго, равною мерою и в подобных – да тако реку – случаях явленна быти зная, теми же и хвалами часто имя его превозносити должности моей приличествовати разсуждаю. Той убо самый верховнейший всего круга земнаго управитель, моя и всея пространнейшия сея империи (яже таяжде суть) сердечножелания благоприятна да сотворит и священное ваше императорское величество со всею пресветлейшею фамилиею во всех делах присноцветуще на множайшая да сохранить лета <…> (Кантемир 1867–1868, II, 338–339).
Псалтырь служит здесь материалом для нескольких взаимосвязанных аллегорических аналогий, складывающихся в многосоставный политический код. Подобно Симеону, Кантемир сопоставляет «богодухновенного царя Давида» со «священным императорским величеством» русской императрицы. В то же время со «священными псалмопениями» Давида сравниваются молитвы подданных о благоденствии монархини и ее царства. Голос пророка присваивается литератору, облекающему в публичное слово политическую эмоцию «всея пространнейшия сея империи».
Как заключает Погосян, для осмысления панегирической словесности этой эпохи чрезвычайно важно понятие политической эмоции, «которая должна быть им [читателем или слушателем] пережита „по должности“ патриота и гражданина». В одическую лирику эмоциональные матрицы такого рода переходили в том числе из торжественной проповеди, где вызванная свершениями государя «обязательная и искренняя радость, в соответствии с внутренней логикой жанра, должна вылиться в обращение слушателей ко Всевышнему» по образцу псалмов: «<…> не ино что на уста приходит, токмо различныя оныя духом святым иногда воспетыя гласы, торжеством вкупе и благодарением божию помощ славящыя» (Прокопович 1961, 37; Погосян 1997, 26–27). Исследователи справедливо усматривают в одической поэзии «фундаментальное соответствие между положением субъекта-подданного (и субъекта речи) в религиозном и политическом мироустройстве» (Маслов 2015, 219; ср.: Ram 2003, 55–57).
Действительно, в посвящении Кантемира благодарение бога выступает образцом для политической эмоции подданного: милости, оказанные Петром и Екатериной фамилии Кантемиров, приписываются божественной воле, которая, в свою очередь, предстает мистической проекцией царской власти. Запечатленная в Псалтыри фигура молящегося Давида, средоточие христианского смирения, оборачивается архетипом подданного, ожидающего вознаграждения за преданность: посвящением к «Симфонии» молодой Кантемир, находившийся в непростом положении после смерти отца, надеялся добиться поддержки императрицы.
Идея о божественном происхождении царской воли культивировалась Петром. Известна сцена, имевшая место между ним и И. И. Неплюевым:
Я поклонился государю; а он, подумав, изволил приказать, чтоб меня во оную посылку назначить; и при сем из‐за стола встали, а меня адмирал поздравил резидентом и, взяв за руку, повел благодарить к государю. Я упал ему, государю, в ноги и, охватя оные, целовал и плакал. Он изволил сам меня поднять и, взяв за руку, говорил: «Не кланяйся, братец! Я ваш от Бога приставник, и должность моя – смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять, буде хорош будешь, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь; а буде худо, так я – истец; ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать; служи верою и правдою! В начале Бог, а при нем и я должен буду не оставить» (Империя 1998, 420).
Представление о том, что божью и царскую награду заслуживают сходные достоинства, опиралось, среди прочего, на 100‐й псалом. Согласно разъяснению Тредиаковского, он представлял собой «извет Давида Царя, что он правил своими людьми справедливо: а особливо, что он наказывал и отдалял от себя злых, а милость являл к добрым» (Trediakovskij 1989, 257).
Х. B. Миних и Симон Тодорский, видевшие в этом псалме образец придворного и политического регламента, опирались на хорошо развитую традицию. Лютер писал в особом изъяснении, что в 100‐м (101‐м) псалме «David, der ein Koenig war und hoffgesinde halten muste, sich selbs zum exempel setzt, wie ein fromer Koenig oder Furst sol auff sein gesinde sehen» ([Давид, царствовавший и содержавший двор, приводит себя в пример того, как благочестивый царь или князь должен смотреть за своей свитой]). Стих 6 толковался в том смысле, что Давид «habe <…> sich umb gesehen nach trewen, fromen leuten, wo er sie hat koennen finden, und erfur gezogen on alles ansehen der person, gleich wie Gott auch thut, der seine gaben auch austeilet nicht nach dem ansehen der person und macht aus dem hirten knaben David solchen grossen, klugen, seligen Koenig» ([выискивал верных, смиренных людей где только можно было и возносил их, невзирая на их положение, подобно господу, который дары свои раздает невзирая на положение и делает из мальчишки-пастуха столь великого, мудрого и благословенного царя]). Затем Лютер ссылался на пример немецкого императора Максимилиана, который вынужден был «zu thun wie David und sich im lande umbgesehen, wo er hat leute kriegen muegen, die vleissig und trewlich erbeiten und sein Regiment huelffen tragen, es seien Adel, Schreiber, Pfaffen oder was gewest sind» ([поступать, подобно Давиду, и осмотреться в своих землях, выискивая людей, которые бы трудились прилежно и верно, в помощь его правлению, будь то дворяне, писари, попы или кто еще] – Luther 1914, 201, 255–256).
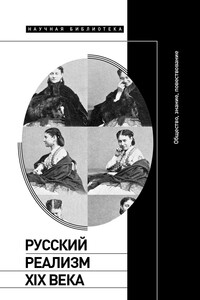
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.