Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [77]
Иными словами, ссылками на божью волю и пророка Давида обосновывалась абсолютистская идеология чинопроизводства, привитая в России Петром и стоявшая за Табелью о рангах. В «Сокращении философии канцлера Франциска Бакона», вышедшем вместе с биографией Бэкона в 1760 г. при Московском университете по желанию Шувалова и в переводе Тредиаковского, в главе «Наставление политическое, написанное к некоторому министру» говорилось:
Плут и лукавец не достоин пребывать в моей палате, говорил Давид. Что ж то будет ныне, ежели честный человек не будет удостоеваем к вступлению во двор Государев, и ежели добродетели останется токмо молчать и уединяться? (Бакон 1760, 219)
Связь библейского этического идеала с общественным положением упоминалась в духовной лирике. Процитируем вошедший в «Сочинения и переводы…» Тредиаковского «Парафразис псалма 111»:
(Тредиаковский 2009, 187; курсив наш. – К. О.)
Образцом придворного успеха могла служить судьба самого Давида; в 1743 г. один из елизаветинских проповедников поучал свою паству:
Что надлежит до благополучия нашего, кто не исповесть что оно есть дар великаго милосердия Божия? <…> Явственно таковым образом засвидетельствовал себя Бог кроме прочих безчисленных в произведении Давида Царя, по свидетельству бо священнаго писания рожден он был от родителей не весьма знатных, сам был последняго пастушеского состояния в малолетстве своем <…> но вдруг взят во двор Царский, перьвее зятем Царю, потом же и действительным престола Израильскаго наследником быть удостоился (Стефан 1743, 6–9).
Перелагая 143‐й псалом, Тредиаковский разворачивал отсутствующую в подлиннике пространную тираду об общественном вознесении Давида (см.: Луцевич 2002, 213–214):
(Trediakovskij 1989, 437–438)
Хотя здесь речь идет о царской власти, молитвенная благодарность такого рода подобала не только монархам, но вообще «владычествующим и начальствующим» и, вслед за ними, всему сообществу подданных. Общепринятое при русском дворе политическое благочестие видело в государственных карьерах и чинах непосредственное проявление божьей воли. Будущий посланник в Лондоне и вице-канцлер князь А. М. Голицын, читатель Кантемира, в ожидании производства в 1755 г. получил от матери такое назидание:
О чине твоем я не смею думать. Надобно быть тем даволным. Ето тебя так многа Бог и Ея И[м]ператорское Величество наградили. Ежели на то воля Божия будет, вперед не уйдет (Писаренко 2007, 17).
В своей критике на Сумарокова, ходившей в эти же годы в списках, Тредиаковский счел нужным заметить о себе:
<…> в чине благоговейно, со всеми добрыми почитает верховнейшее благоволение производящее в чин и непрекословно повинуется руке предводительствующей, по тому ж благоволению, чин учрежденный (Критика 2002, 32).
Переложение 143‐го псалма и и другие «оды божественные» соседствовали в «Сочинениях переводах» Тредиаковского с «Одой VI. Благодарственной», прославлявшей оказанные поэту благодеяния императрицы:
(Тредиаковский 2009, 173)
Как и Кантемир в посвящении к «Симфонии», Тредиаковский осмысляет собственное придворное положение в молитвенных категориях благодарения и прошения. В обоих случаях двойная молитва – к богу и императрице – не только определяет речевую роль автора, но и распространяется на всех «нас», сообщество «твоих рабов». Авторское «я» предстает в посвящении Кантемира и оде Тредиаковского образцовым воплощением политической эмоции, которую Петр желал привить всем своим подданным под именем «кротости Давидовой» (Чистович 1868, 125). Эта эмоция канонизировалась в духовной лирике, жанровое устройство которой вполне соответствовало такой задаче.
Тематическое движение большинства переложений подчинено развертыванию молитвенной субъективности. В литургической практике псалмы используются в качестве молитв, так что каждый христианин сливает свой голос с голосом Давида и узнает себя в его исповеди. Аналогичным образом в акте чтения поэтических переложений их лирическое «я» вменялось читателям, и Давидова молитва оборачивалась литературной матрицей для осмысления их собственного опыта. Бет Квитсланд заключает на английском материале: «Поскольку и отцы церкви, и комментаторы эпохи Реформации настаивали на личной применимости псалмов, способных служить каждому молитвой в его собственных бедствиях, естественно полагать, что авторы поэтических переложений Псалтыри проецировали на древнееврейский источник собственную разработку вопросов о личности и власти» (Quitslund 2008, 28; см. также: Greenblatt 1980, 119–120, 277–278; Zim 1987, 80–81).
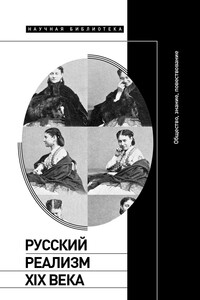
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.