Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [72]
В одобренной Екатериной ломоносовской оде голос поэта черпает силу из высочайшего манифеста. Эта близость подкрепляется созвучиями с Псалтырью и отсылками к ее царственному сочинителю. Среди псалмодических параллелей к ломоносовским строфам находится и псалом 48, в котором Давид взывает ко всем звеньям общественной иерархии. Цитируем переложение Тредиаковского:
(Trediakovskij 1989, 124, 128)
Обратим внимание на речевую ситуацию этого псалма: царь Давид внушает подданным – не в последнюю очередь тем, кто «в чести», – вероучительные истины, неотделимые от сословных и политических обязательств. Этот сюжет соответствовал политическим прочтениям Псалтыри, стоявшим за «Тремя одами парафрастическими…» и другими переложениями псалмов. Державин, мастерски усвоивший уроки политической и духовной лирики Ломоносова и Тредиаковского, в итоговом «Рассуждении о лирической поэзии» (1811) приводил рассмотренную нами ломоносовскую строфу 1762 г. в особом разделе, доказывавшем нравоучительное действие лирики:
По той ли причине, что поэзия язык богов, голос истины, пролиявшей свет на человеков… известно, что во всех народах и во всех веках принято было за правило, которые и поныне между просвещенными мужами сохраняется, что советуют они в словесности всякаго рода проповедывать благочестие, или науки нравов. Особливо находят более к тому способною лирическую поэзию, в разсуждении ея краткости и союза с музыкою, чем удобнее она затверживается в памяти и, забавляя, так сказать, просвещает царства. <…> добрые государи, отцы отечества, любившие доблесть и благочестие, их [скальдов] при себе содержали, уважали их песни, хвалились ими. <…> Псалтирь наполнена благочестием. Самый первый псальм не что иное, как нравоучение. Пророк вдохновенный (vates) или древний лирик был одно и то же. <…> Посему-то, думаю я, более, а не по чему другому, дошли до нас оды Пиндара и Горация, что в первом блещут искры богопочтения и наставления царям, а во втором, при сладости жизни, правила любомудрия (Державин 1872, 568–569).
Державин опирается на расхожие представления, отразившиеся и в «Трех одах парафрастических…». Латинский термин vates с его двойным значением «поэта» и «прорицателя» фигурировал в горацианском эпиграфе к брошюре 1744 г. (см.: Шишкин 1983, 237–238). Параллель между классической лирикой и Псалтырью обосновывалась в «Рассуждении об оде вообще» (1734) Тредиаковского, перепечатанном в памятных Державину «Сочинениях и переводах». Суммируя опыт высокой лирики XVIII в., Державин артикулирует стоявшие за этой параллелью представления о политико-богословском союзе между лирикой и властью в деле «наставлений царям» и «просвещения царств».
Толкование Псалтыри как образца высочайшего воспитания подданных, соответствующего двойной роли царственного пророка Давида, было востребовано в эпоху появления «Трех од парафрастических…». Незадолго до выхода этой книжки, в феврале 1743 г., Симон Тодорский произнес проповедь в честь дня рождения наследника престола Петра Феодоровича на псалтырный стих «Праведник яко финикс процветет, и яко кедр, иже в Ливане, умножится» (Пс. 91:13). Библейское праведничество прямо связывалось здесь с политическим наследием Петра I и идеей дисциплинарной монархии:
За то тщалася злоба искоренити Давида со всем домом его: Понеже праведный сей Монарх Израильский по должности своей возлюбил благостыню, тщился искоренить неправду родную злобы сестру, со всеми злыми ее нещадками. Якоже сам о себе свидетельствует: творящия преступление возненавидех, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющагося от мене лукаваго не познах, оклеветающего тай искряннего своего, сего изгонях. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню, глаголяй неправедная не исправляше пред очами моима. Во утрия избивах все грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающия беззаконие. <…> неправду <…> праведныи Монархи праведными своими регламентами, и милостивыми праведников защищающими указами <…> c целаго государства вон за пределы изгнати сильны (Кислова 2009, 320).
Языком Псалтыри очерчивался двойной авторитет монархии, основывающей политическое господство на заповедях священной нравственности. В приведенном отрывке Тодорский цитирует 100‐й псалом, входивший со времен Феофана в чин коронации. Подобно обер-гофмейстеру Миниху, Тодорский усматривал в этом псалме установленные «праведным монархом» начала общественного порядка.
Вместе с другими гомилетическими и наставительными текстами этого времени проповедь Тодорского составляла жанрово-тематический фон для поэтических прочтений Псалтыри в «Трех одах парафрастических…» и панегириках тех лет. В сочиненной летом 1743 г. оде на тезоименитство наследника Ломоносов, вслед за Тодорским, варьирует стихи 91‐го псалма и превращает их в пророчество об успешном царствовании Петра Феодоровича:
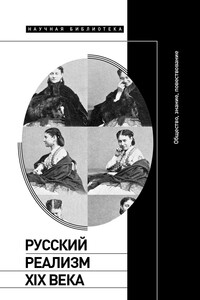
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.