После запятой - [32]
— О, как там мама? Теперь я о ней забыла так основательно. — Ну, еще бы, ты и себя-то не помнишь, куда уж там остальных. — Его-то я помню все время. — Это тебе так только кажется. Ты его чаще вспоминаешь, может, и чаще, чем себя, но вспоминаешь ты не его, а его как палочку-выручалочку, чтобы ухватиться за что-то плотное и не погрузиться. — Куда? — Туда, куда тебе следовало бы погрузиться уже давным-давно, чтобы наконец найти себя. Тогда бы ты и себя помнила, и других бы ощущала без всяких усилий одновременно. — Но сейчас я вспомнила про маму. Мне все же хочется посмотреть, как она. Но ее нет в комнате. — Так иди к ней! — Как?! А, вот она. Удивительно, что я так сразу ее нашла. Ее положили — или она сама улеглась? — в мою кровать. Если бы я пошла ее искать, я вначале заглянула бы в их спальню. Темно здесь как. И душно. И болит. Почему я подумала, что темно? Совсем даже нет — уже рассветает. А, наверное, была ночь, а теперь утро. Это же наша дача! Я и забыла, что мы снова сюда приехали. Ну конечно, ведь опять лето! Я что-то хотела сделать, когда мы сюда приедем. Всю зиму хотела, но что? Что-то во дворе… Мой мячик. Когда мы уезжали прошлым летом, он закатился за перекладину, я не смогла его вытащить почему-то. А ну-ка? — да, он еще там. Сейчас попробую его достать. Совсем не испортился, только немного полинял. Еще бы, в такой грязи пролежал, бедняга. Не обижайся на меня, я тогда хотела тебя выручить, но у меня ничего не получилось. У меня не было времени, они меня торопили с отъездом. Помнишь, как они кричали: «Брось возиться, мы и так опаздываем»? Но я все время вспоминала тебя. Сейчас помою тебя, а заодно и руки, под краном, и мы снова поиграем. Надо проверить, так же хорошо у меня получается игра в лягушку, или я уже немножко разучилась, как в прошлый раз. Но тогда я еще была маленькой… ох, забрызгала ноги грязью, я забыла, что из этого крана вода выливается с такой силой. Прошлым летом я научилась вовремя отскакивать… Мама будет ругаться. Вон она вышла из дому. Почему всегда так — стоит мне что-нибудь натворить, и она тут же появляется! Сейчас начнется. Почему она так долго молчит? Странно — она улыбается. Не замечает заляпанных носков? Тогда можно немного поиграть. Ой, что это с моим мячиком? Какой он стал огромный! Он, кажется, увеличивается. Я не смогу его скоро удержать. Это уже не мячик. Это что-то другое. Но такое же круглое. Но по-другому. А, понятно, я теперь внутри моего мяча. Ой, он, кажется, лопнул! И все так загорается, и вспыхивает, и сыплется. Сверху. Из купола! — а, тогда мы в цирке! Вот почему мне так весело. Это иллюминация. Какие красивые огоньки! Наконец я попала в тот самый цирк, в который хотела. А то мама всегда вела меня не туда. Вначале, когда мы приходили, я всегда думала, что на этот раз пришли туда. Но потом, после антракта, когда мы уже опаздывали, потому что я долго ем мороженое, не могу, как другие нормальные дети, все делать как положено, мы проходили мимо еще открытых дверей, из которых уже виднелось представление. Мне хотелось туда, в эту дверь, но мама вела мимо, говорила, что это не наша, но тут же появлялась следующая дверь, за которой было еще интересней, я рвалась туда, а мне говорили, что с такими капризами мы находимся в цирке в последний раз. Наша дверь всегда оказывалась самой дальней, и пока мы до нее доходили, мы миновали множество дверей, за которыми происходило — такое! Но мама говорила, что наши места ближе всего из другой двери. Она говорила, что везде, из каждой двери, видно одно и то же представление, но я-то видела, что везде разное, и гораздо интереснее того, которое я потом была вынуждена смотреть. А где сейчас мама? Вот же, сидит рядом. Я помню, что я ее искала. Но не раньше, а потом. Что же я хотела? Я хотела к маме.
Что-то она сегодня вялая. Положила голову мне на колени, не хочет играть. Уж не заболела ли? Нет, лоб не горячий. Почему же у меня так тяжело на душе? Что-то мне тревожно. И хорошо, надо тревожиться. Ее так легко сглазить, я поняла это чуть ли не с самого ее рождения. Если не окутать ее постоянным волнением, как одеялом, не запеленать тревогой, с ней сразу что-нибудь случается, заболевает или попадает в какую-то историю. И еще очень полезно детей гладить, ласка тоже защищает детей, как та старушка мне сказала в скверике, я теперь не забываю. Какие у нее мягкие волосики. И опять меня захлестывает эта животная нежность, я и забыла это чувство. Давно я не гладила ее по голове, с тех пор, как она перестала быть маленькой. Потом она уже не давалась. Как хорошо, что она снова ребенок. Я не думала, что успела так по ней соскучиться. Но почему я ее так страстно ласкаю? Как будто не своего ребенка. Как будто давно ее не видела. Как будто тайком. Не нужно об этом думать. Как будто я перед ней в чем-то виновата! Нельзя… Как будто в последний раз! Ах, зачем я об этом подумала! Сейчас я все вспомню. Как же я могу гладить ее по голове, ведь она у нее разбита! Какой ужас! И она не такая теперь маленькая. Она же выросла. О, зачем я вспомнила, ведь было так хорошо! Она уходит… Как быстро! Мы не успели как следует побыть вместе. Но она удаляется, как будто в воронку засасывает. Этого уже не остановить. Подожди! Доченька! Вернись еще хотя бы на минутку! Слышишь меня? Я больше не буду! Доо-оченька! Как она на меня укоризненно посмотрела! Ах, есть за что… Мама! Не укоризненно! Мама, я здесь! Я по-прежнему здесь! Ну почему ты меня больше не видишь? Тебе мешают твой страх и твои мысли, мама, я вижу. Они заслоняют меня дымкой. Перестань думать, мама! И перестань плакать, не то у тебя не будет сил меня видеть. Мама, ну перестань же, я здесь, мне тоже одиноко. И страшно. Не только тебе. Ма-ма! Она не хочет меня больше видеть! Ей легче плакать. Ну да, для этого нужно немалое мужество. Не будь такой злой, неизвестно, кому тяжелее. Но что же мне делать? Мне так страшно. Она так плачет! Нет, не от этого. Не только. Здесь так темно! Нет, не то. Я не вижу выхода! Опять не то. Я сама боюсь нечто увидеть. Теперь верно. — Здесь кто-то есть еще, кроме нас двоих. Но этого не может быть! Вон там, в углу. Ребенок. Как она сюда попала? Она мне кого-то напоминает. Где я ее уже видела? Это ведь она на меня смотрит. Я вижу себя ее глазами — вот я стою, вся в белом. Странно, у меня никогда не было такого наряда. Но это я, безусловно. Значит, и мама может меня видеть. Надо сделать еще попытку. Подойду к ней поближе. Нет, не получается. Она слишком предается своему горю. И это горе такое материальное. Но все мысли, которые во мне возникают, явно не мои. Так и так все мысли никому не принадлежат, их можно выразить, можно присвоить, но нельзя родить, ты убедилась недавно, что они самостоятельные сущности, появившиеся, возможно, раньше нас, но уж наверняка раньше людей. Я хотела сказать, что не я сама до них дохожу, а кто-то сознательно мне их передает. Я могу объять много мыслей сейчас. Здесь я безмерна. Настолько, насколько решусь себе позволить. Хотелось бы знать, были ли такие, которые позволили себе увидеть все? И не только увидеть. Если да, представляю, через какие узкие отверстия им пришлось пройти, чтобы настолько расшириться. Это неправильное определение, не подходит к земной логике. Зато уживается в местной. Или пусть — насколько невесомыми, легкомысленными им надо было стать, чтобы проникнуть сквозь незаметные трещины тех твердокаменных скал, которые они для себя выбирали. Или — какие же несокрушимые, цельные преграды перед ними вставали, что им, решившим не сворачивать с пути, приходилось стать до такой степени прозрачными, чтобы пропустить их через себя и не разбиться. Прозрачней чистого стекла бывает только горный воздух. Я не забралась так высоко, иначе я бы уже не видела их. Что-то меня здесь держит. Мама? Этот сероватый поток, который из нее выходит, эта эманация, выделяемая ею. Она разрастается, принимая форму, образуя щупальцевидные отростки, которые, ощупывая все в пределах досягаемости, могут собирать информацию, недоступную другим органам человеческого восприятия. Они проникают дальше интуиции — самого дальновидного человеческого прибора. Пока эти эманации продолжают высвобождаться из тела, они в состоянии поддерживать обратную связь. Направь она этот поток на меня, ей было бы очень просто меня увидеть. Но она пустила его на свои переживания. То есть переживания, кажется, сами вытягивают его на себя и поглощают. Получается, что мы служим пищей для переживаний, а не наоборот, как люди думают. Они как будто такие черные бездонные пятна, то есть сгустки. Я помню, что сгустки не могли быть бесконечными. Тем не менее сейчас это так. Все так просто. Их ровно столько, сколько человек может из себя выдавить в данный момент. И если они не попадают в добычу к переживаниям тут же, то на какое-то время остаются связанными со своим индуктором. Если он вдруг догадается, что ими можно пользоваться — они прирастут к нему и станут постоянной проводящей сетью. Если же нет, они отпадают, превращаясь в готы, ждущие благоприятных условий. Но что-то мешает мне спокойно продвигаться по этой извилистой тропинке, проложенной лазутчиками-мыслями. Форма, в которую я сейчас уложилась, тоже была дана мне в готовом виде, но мое состояние полностью в нее укладывается. Она является одним из немногих известных сосудов, в которых можно содержать подобные состояния. Но что же меня на этот раз отвлекает? Опять какое-то беспокойное свербление. Что-то меня тащит обратно. Покориться? Ну ладно, вряд ли там есть какая-то опасность. А, это меня тянули мысли о девочке. Но что это за ребенок? Как она сюда забрела? На такие сборища чужих детей не водят и не оставляют их без присмотра. Она кого-то мне напоминает. Может, это дочка одного из моих друзей, но я ее еще ни разу не видела? Но кого же? Больше всего она напоминает мне меня. А вдруг она могла бы быть моей дочкой? О, Боже! А ну-ка: двадцать четыре минус пять… Нет, не получается. Даже минус четыре не получается, рановато. Господи, да это же я! Она вышла из маминого сна! Или я вышла из нее, а сон продолжается. Все, что от меня требуется, — это стать снова ею. Где же мама? Больше всего мне хочется уткнуться ей в колени и забыть обо всем. Мама всегда находит выход из любого положения.

В Германии стоит аномально жаркая весна 2018 года. Тане Арнхайм – главной героине новой книги Лейфа Рандта (род. 1983) – через несколько недель исполняется тридцать лет. Ее дебютный роман стал культовым; она смотрит в окно на берлинский парк «Заячья пустошь» и ждет огненных идей для новой книги. Ее друг, успешный веб-дизайнер Жером Даймлер, живет в Майнтале под Франкфуртом в родительском бунгало и старается осознать свою жизнь как духовный путь. Их дистанционные отношения кажутся безупречными. С помощью слов и изображений они поддерживают постоянную связь и по выходным иногда навещают друг друга в своих разных мирах.

У героини романа красивое имя — Солмарина (сокращенно — Сол), что означает «морская соль». Ей всего лишь тринадцать лет, но она единственная заботится о младшей сестренке, потому что их мать-алкоголичка не в состоянии этого делать. Сол убила своего отчима. Сознательно и жестоко. А потом они с сестрой сбежали, чтобы начать новую жизнь… в лесу. Роман шотландского писателя посвящен актуальной теме — семейному насилию над детьми. Иногда, когда жизнь ребенка становится похожей на кромешный ад, его сердце может превратиться в кусок льда.

Книга Р.А. Курбангалеевой и Н.А. Хрусталевой «Истории из жизни петербургских гидов / Правдивые и не очень» посвящена проблемам международного туризма. Авторы, имеющие большой опыт работы с немецкоязычными туристами, рассказывают различные, в том числе забавные истории из своей жизни, связанные с их деятельностью. Речь идет о знаниях и навыках, необходимых гидам-переводчикам, об особенностях проведения экскурсий в Санкт-Петербурге, о ментальности немцев, австрийцев и швейцарцев. Рассматриваются перспективы и возможные трудности международного туризма.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
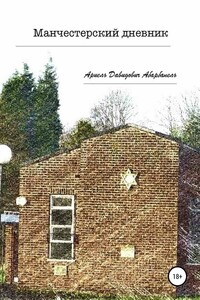
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.