Польский театр Катастрофы - [215]
В своей концепции театра Жан-Франсуа Лиотар различает две его модели[993]. Одна основывается на принципах замещения (re-placement), а другая на принципе перемещения (dis-placement). Первая руководствуется стратегией репрезентации: мы показываем на сцене нечто, что произошло когда-то или находится где-то в другом месте. Между элементом А и элементом В устанавливается принцип подчинения, а что за этим следует — это подчинение регулируется властными отношениями, начинает подвергаться разнообразным формам идеологического контроля. Театр такого рода Лиотар определяет как религиозный и нигилистический, поскольку он опирается на переживание отсутствия (то, что находится на сцене, не является тем, что составляет предмет репрезентации). Отсутствие, подчиненное правилам репрезентации, служит, однако, определенным целям данного человеческого сообщества. Другой разновидностью театра управляет трансфер энергии, перемещающейся между образами, действиями, словами. Нужно, однако, сразу подчеркнуть, что слово dis-placement заключает в себе также элемент случайности, рассеянности, неожиданности и непредвиденности. Ведь энергия сама по себе не знает принципа целеполагания, она стремится только к самообнаружению. Чтобы проиллюстрировать различие между двумя моделями театра, Лиотар использует метафору больного зуба и стиснутой ладони. В театре первого типа стиснутая ладонь репрезентирует больной зуб, указывает на свою причину, которой на сцене нет, и тем самым устанавливает принципы зависимости, причинно-следственной связи, целеполагания. В театре второго типа самым важным событием является поток энергии между больным зубом и стиснутой ладонью — поток непредвидимый, но зато реальный. Этот поток энергии Лиотар назовет «невыразимым аффектом», событием, располагающимся вне регистра общественной коммуникации. Даже если мы можем отдать себе отчет о связи между источником боли и реакцией на нее, само переживание боли противится артикуляции такого рода, становится абсолютным здесь и сейчас, не отсылает ни к чему иному кроме себя самого. Аффект не является знаком чего-то отсутствующего: он сигнализирует как раз то, чем он является. Либидинальный театр Лиотара не может быть, таким образом, местом, где свершаются ритуалы оплакивания, поскольку он не может уловить переживание утраты. Но тем самым он защищает оплакивание от идеологического насилия. «Зуб и ладонь уже ничего не означают; они суть силы, интенсивности, они обнаруживают аффекты»[994]. Аффект указывает на боль, но не позволяет придать ей хоть какой-нибудь смысл. В «(А)поллонии» об аффективном хаосе событий заботится Джокер, он акцентирует те моменты, когда между героями возникают недоразумения, ситуации, в которых утрачивается смысл произносимых слов. Он следит за этой распрей, если понимать ее не в значении конфликта приводимых доводов, а в значении разрыва между доступными сторонам языками. Попытка принудить аффект к тому, чтобы он заговорил артикулированной речью, является для Лиотара чистой формой насилия. Аффект, однако, всегда противится этому насилию, в какой-то своей части он всегда остается невыразимым. Это свидетельствует не о защитных механизмах, блокирующих процесс проработки, а указывает на насилие, заключающееся в процедурах самой терапии и концепциях катарсиса, выработанных культурой. Сопротивление, которое аффект оказывает терапевтическому насилию, указывает на те места, где для Лиотара начинается искусство.
Тема прививки зрителю чувства вины проводится в спектакле Варликовского через фигуру Агамемнона, обращающегося к публике словами эсэсовца фон Ауэ — героя романа Литтеля «Благоволительницы»: «Вы никогда не сможете сказать: я не убью; единственное, что вы можете сказать: надеюсь, я не буду убивать»[995]. Не тут, однако, скрывается самая большая провокация Варликовского. В спектакле Ауэ сам компрометирует демонизм, заложенный в этом герое. Какой толк нам воображать, что в соответствующих обстоятельствах мы могли бы стать преступниками, тогда как мы можем без труда представить себе, что могли бы стать пассивными свидетелями чужого страдания, могли бы отказать в помощи? Об этом когда-то писала Синтия Озик: идентификация с жертвами или экзекуторами требует усилия воображения и всегда остается своего рода бесплодной спекуляцией. Идентификация с позицией bystanders тревожит своей легкостью, поскольку мы этими посторонними наблюдателями, собственно говоря, все время и являемся, особенно в ситуации ежедневного контакта с медиальными сообщениями о совершаемом над другими людьми насилии. Варликовский отчетливо ставит зрителей именно в эту позицию: он и закрепляет ее (например, путем медиализации сценических действий, их проекции на большие экраны), и в то же самое время атакует (путем непосредственной вербальной атаки, раз за разом возобновляемой стратегии обвинений). Речь здесь идет не о лукавых зрителях, а о зрителях беспомощных, маскирующих собственную беспомощность беспрестанной процедурой осуждения всего вокруг. Поэтому не суд над преступником, а суд над Праведницей является самой большой провокацией Варликовского. Лучше всего уловила это Иоанна Токарская-Бакир: «Расхождение намерений и действий, то есть как раз то, о чем сокрушается не совсем плохой, выдуманный фон Ауэ, стало судьбой абсолютно доброй, невыдуманной Праведницы Аполонии Махчинской (о ее прототипе можно узнать в рассказе „Поля“ Ханны Кралль в томе „Там уже нет никакой реки“, изданном в Варшаве в 1998 году). Героиня, которая является и индивидуальным, и коллективным „метафизическим объектом“ спектакля как в переносном, так и в буквальном смысле, хотела спасти 26 евреев, а спасла одну только Ривку. Хотела спасти весь мир, а погубила себя, своего нерожденного ребенка, другого же ребенка лишила матери, мужа — жены. Мы не были бы собой, если бы сегодня все это не зарегистрировали хладнокровно в рубрике: „виновна“. Конкретно, именно так регистрирует все это „один из нас“, сын Аполонии, получающий за нее медаль Праведников, который укоряет мать за свое одинокое детство и за то, что хоть „у нее были мы“, предпочла она, однако, евреев. Совсем как многочисленные дети реальных Праведников, укоряющие родителей, что те оставили им в наследство только проблемы плюс раз в году посылку с апельсинами из Израиля»

Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны Высоцкой посвящена становлению поэта и артиста, кумира нескольких поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству, удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200 уникальных фотографий и документов, почти все они публикуются впервые. В ней множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие понять истоки формирования его личности, характера и творчества. Книга будет интересна как давним поклонникам Высоцкого, так и всем интересующимся творчеством поэта, барда и актера.

Книга В. М. Красовской посвящена великой русской танцовщице Анне Павловой. Эта книга — не биографический очерк, а своего рода эскизы к творческому портрету балерины, прославившей русское искусство во всем мире. Она написана как литературный сценарий, где средствами монтажа отдельных выразительных «кадров» воссоздается облик Павловой, ее внутренний мир, ее путь в искусстве, а также и та художественная среда, в которой формировалась индивидуальность танцовщицы.

В книге описана форма импровизации, которая основана на историях об обычных и не совсем обычных событиях жизни, рассказанных во время перформанса снах, воспоминаниях, фантазиях, трагедиях, фарсах - мимолетных снимках жизни реальных людей. Эта книга написана для тех, кто участвует в работе Плейбек-театра, а также для тех, кто хотел бы больше узнать о нем, о его истории, методах и возможностях.
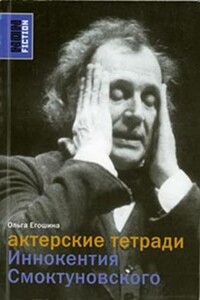
Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основанная на богатом документальном и критическом материале, книга представляет читателю широкую панораму развития русского балета второй половины XIX века. Автор подробно рассказывает о театральном процессе того времени: как происходило обновление репертуара, кто были ведущими танцовщиками, музыкантами и художниками. В центре повествования — история легендарного Мариуса Петипа. Француз по происхождению, он приехал в молодом возрасте в Россию с целью поступить на службу танцовщиком в дирекцию императорских театров и стал выдающимся хореографом, ключевой фигурой своей культурной эпохи, чье наследие до сих пор занимает важное место в репертуаре многих театров мира. Наталия Дмитриевна Мельник (литературный псевдоним — Наталия Чернышова-Мельник) — журналист, редактор и литературный переводчик, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
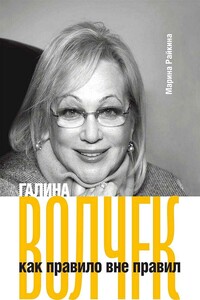
Галина Волчек — это не просто женщина, актриса и главный человек одного из самых известных театров страны — «Современника». Она живет со своей очень нестандартной системой координат. Волчек ненавидит банальности и презирает предателей. Она не признает полутонов в человеческих отношениях и из нюансов творит свой театр. Гармония несочетаемого — самая большая загадка жизни и творчества первой леди российского театра Галины Волчек. В оформлении 1-й стороны обложки использована фотография О. Хаимова.
