Пока дышу... - [95]
— Ого! Здорово же вы выросли! В мои времена — какие машины? Повозку, лошадь и то не всегда выпросишь. А дорога такая, что хоть сам в помощь лошади впрягайся, — сплошная грязь.
— Дорога теперь хорошая, — с тою же гордостью сказал доктор.
Он вообще очень хотел показать приезжему, ассистенту профессора, знаменитого хирурга, что и они — не обсевки в поле. Но говорил с добром, без зависти, напротив, как бы желая уверить Горохова, что люди здесь стараются и как будто неплохо делают свое дело.
Без халата, в лыжном потертом костюмчике, он выглядел совсем молоденьким, в самый бы раз пойти за околицу на самодельное поле с ребятами в футбол играть. А может, и ходит?
На столе кипел и сам себе под нос мурлыкал самовар, и совершенно по-деревенски стояло все разом: частиковые консервы, колбаса, варенье и плюшки. И еще мед. Неожиданной выглядела только книга, наспех заложенная ножом, которую, как видно, читал, дожидаясь Горохова, хозяин.
Федор Григорьевич полистал в Варшаве изданный сборничек английских юмористических рассказов. Комментарии, словарик — польский.
— Вы польский знаете? — спросил Горохов.
— Вот польского-то как раз и не знаю. А учебника под рукой нема. Выписал. А это товарищ пока прислал. Английским-то я владею свободно.
Федор Григорьевич почувствовал хоть чуточный, да укол. О том, что у чубастенького больше свободного времени, думать не приходилось. Кто-кто, а уж Горохов понимал, что у главного врача этой больнички работы невпроворот. Один бог да начальство знает, сколько нервов и сил потратил он на выбивание машины, дров, каждой иглы. И уже исключительно один бог ведает, с чем только и в какое только время суток не обращаются к нему больные.
Дело не во времени. Дело в том, что поколение чубастеньких (да, да, это уже не поколение Горохова, для них он уже старший) не мыслит себя без знания языков. Многие из них не нуждаются в переводчиках на конгрессах, в турпоездках. Язык в их обиходе уже сам собою подразумевается, а он вот нужную статью перевести просил…
Но, наткнувшись на это воспоминание, Горохов притормозил себя. Хватит, хватит! Не сейчас…
Хозяин поставил на стол еще какую-то чашку. Оказалось — огурцы малосольные, от которых по комнате пошел совершенно невозможный дух.
— Может быть… — робко начал он, глянув на гостя.
— Ну конечно! — подхватил Горохов, по-настоящему обрадованный. Куда как к месту было сейчас хватить честного эскулаповского спиртяги. Ясное дело, что не «красную головку» станут они пить!
Обрадованный доктор кинулся куда-то в глубь своей маленькой квартиры и принес бутылку с этикеткой ни мало ни много английского виски «Белая лошадь».
— Ну и ну! — удивился Горохов, читая надпись. — Не ожидал, признаюсь, такого сюрприза.
И стопки появились хорошенькие, с золотыми ободками, и самовар распелся наконец как-то благостно.
— За ваше здоровье, Федор Григорьевич! — серьезно и очень искренне сказал доктор и поднял свою стопочку. — Это не просто так. Вас тут помнят, любят. Вы же видели.
Это было действительно «не просто так».
Маленький доктор не спешил пить. Видно, ему была дорога торжественность этой минуты. Он принимал у себя в доме Федора Григорьевича, доктора Горохова, того самого, о котором во многих домах селения думают с любовью и благодарностью. И как бы от имени всех селян он чокался с доктором Гороховым.
Федор Григорьевич ощутил это и был по-настоящему тронут. Что ж, аплодисменты, выходит дело, достаются и врачу. И они не менее дороги, нежели те, что раздаются, к примеру, в Большом зале Московской консерватории.
— Выпьем за мою следующую операцию, — вдруг попросил Горохов. — Буду оперировать на сердце…
Он торопливо проговорил все это, словно боясь, что хозяин откажется. А Федор Григорьевич как бы задумал: вот если сейчас они выпьют за удачу, все будет хорошо.
Откуда возникло это чувство у трезво мыслящего Горохова? Скорее всего, из той обстановки доверия и хоть маленькой, но все же славы, которая окружала его весь день. Такое не часто выпадает. И ему казалось, что если здесь, эти вот люди, в этот день, пожелают ему удачи, они как бы станут его союзниками, помощниками, и тогда он прооперирует Чижову, и она будет жить.
— А как вы думаете оперировать? — вдруг буднично, словно речь шла о том, как Горохов думает провести отпуск, спросил хозяин.
Они уже чокнулись, выпили, и сейчас оба хрустели огурцами.
Эта подчеркнутая простота интонации удивила и крайне заинтересовала Горохова. Вот так чубчик! Он мельком глянул на молоденького врача и отметил, что сейчас уже тот не смотрит на него снизу вверх, а, пожалуй, по-товарищески сочувствует ему, профессионально сочувствует: да, мол, у каждого из нас свои трудности, свои рубежи, которые сложно, а иной раз и страшно брать.
— Как думаю оперировать? — переспросил Федор Григорьевич и по вкоренившейся студенческой привычке словно бы поискал взглядом доску.
Хозяин мигом понял этот взгляд, вскочил, опять куда-то побежал и вернулся с белым листом и шариковой ручкой.
— Ну вот, — сказал Горохов и задумчиво посмотрел в окно — опять же так, как смотрят студенты на стену, на потолок или за стекло аудитории, будто именно оттуда и придет к ним правильный ответ на поставленный профессором вопрос.
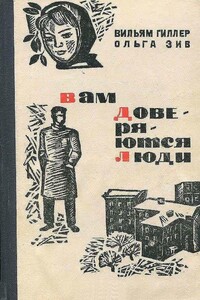
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
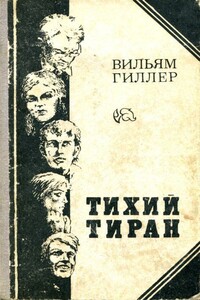
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».