Пока дышу... - [96]
Черное ночное стекло, отражавшее стол и самоварные блики, таинственно мерцало, начало слегка синеть — зарождался рассвет. Предутренняя прохлада просочилась в комнату, было очень тихо. И вдруг нахально-звонко, так, что оба они вздрогнули, зазвонил будильник.
— Чтоб тебе! — сказал чубастый доктор и в третий раз кинулся в глубь своих тесноватых апартаментов.
— Почему в такую рань? — спросил Горохов, когда он вернулся. Еще не было пяти.
— Единственное время, когда можно подзаняться. И то, конечно, если нет чепе, — сказал хозяин.
— Ну, так как? — спросил Горохов, когда схема операции была вычерчена и чубастый долго висел над ней, опершись ладонями о стол. — Ты бы взялся?
Доктор погасил лампу. Было еще темновато, но свет, хоть и новорожденный, делал ее уже ненужной. Разогнувшись, чубастенький постоял, обхватив руками свои локти и сбычившись. В белесом сумраке он казался большим и хмурым, но Федор Григорьевич понимал, что парень просто напряженно думает.
— Сейчас я бы, конечно, не взялся, — наконец сказал он. — Но постарался бы сделать все, чтобы это не было неизбежно, чтобы можно было повременить. А потом, со временем, пожалуй, рискнул бы.
Он сказал это и так уверенно вскинул голову, словно уже сегодня должен был вместо обычного обхода больных встать к тому грозному операционному столу.
— Ну, а коль я уже «со временем», то мне пора становиться! — Горохов тоже поднялся, потянулся. Странно, от бессонной ночи не осталось ни сонливости, ни усталости, наоборот, было чувство, что она оказалась очень нужна, эта ночь, избавившая его от остатков нерешительности и сомнений. Он полетит сейчас домой и будет оперировать Чижову.
Единственное, что теперь его волновало, — не выписал ли ее Кулагин перед отъездом в отпуск? Ну ничего, даже тогда он найдет эту женщину и избавит ее от обреченности. Сейчас он верил, что в силах это сделать.
Он простился с чубастеньким доктором тепло, как с лучшим другом, как с братом, потому что молодой его товарищ, и сам, пожалуй, не подозревая того, очень помог ему в эти тихие звездные часы.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Профессор Кулагин несколько раз ловил себя на какой-то, если можно сказать, подсознательной мысли, что надо бы как-нибудь поговорить с сыном о труде врача, доказать ему, прямо на бумажке рассчитать, что за адов труд у заурядврачей, какое отсутствие возможности проявить даже те способности, какие в тебе есть, а не то что развить новые.
Эта надо было сделать, чтоб у мальчика и в мыслях не осталось сожалений о его полудетском стремлении поступить в медицинский, пойти, так сказать, по стопам отца.
Сергею Сергеевичу не хотелось, чтоб сын строил жизнь только на основании слепого доверия к отцу. Нет, пусть сам до конца поймет, что не в воле отца было дело, а в объективной реальности.
Он даже испещрил однажды цифрами листок, который собирался показать Славе, и сам поразился, как убедительно выглядели эти пригвожденные к бумаге цифры.
А какой-нибудь провинциальный врач? Это же еще бесперспективней, это просто-напросто дорога в никуда!
Вот поехал милейший Федор Григорьевич в район. И очень хорошо. Пусть сравнит теперь, как живет и работает он и как другие прозябают.
Конечно, Слава мог бы возразить, что не обязательно ишачил бы в поликлинике. Вот он же, его отец, вырвался! Верно. Впрочем, нет, этого Слава из гордости не скажет и из скромности: не станет сравнивать себя с отцом..
Слухи об организации научно-исследовательского института для Сергея Сергеевича давно перестали быть новостью. Уже и в городе об этом поговаривали. И жены многих врачей — конечно, врачей, занимающих хоть сколько-то видное положение, — по секрету друг от друга прикидывали возможности получения новых квартир. А работяг врачей районных поликлиник слухи эти вовсе не интересовали. Собственно, поначалу и Кулагин не был уверен, что хочет возглавить этот НИИ. По привычке все взвешивать на бумаге он и для себя заготовил однажды два листка: на одном записал все, что касалось мединститута, а на другом — научно-исследовательского. Получилось довольно наглядно.
Мединститут: готовит врачей (тех самых, несчастных!), аспирантов (ну, этим полегче, среди них и бездельники попадаются и, представьте, отлично существуют), ординаторов (эти работают, но можно ли сравнить их размеренный труд с непрерывной беготней участкового врача?). Далее: институт сам составляет план научных работ, сам ставит проблемы.
А институт научно-исследовательский уже не столь самостоятелен. План он получает от Академии медицинских наук и Министерства здравоохранения. Бывает, разумеется, что и сам выдвигает какие-то темы, однако обязан согласовать и уточнить их с той же Академией медицинских наук.
Меньше самостоятельности? Безусловно. Однако перспектив больше и всяких возможностей тоже.
В первый период раздумий Сергей Сергеевич, пожалуй, с большей симпатией поглядывал на свою записку с «данными» мединститута. Но чем дальше, тем больше проникало в него какое-то беспокойство: не слишком ли рано он намерен поставить на себе крест?
И вот именно в это время он спохватился, что давно не печатается. А почему, собственно? Возраст его — это только зрелость, но не старость и, значит, не может служить преградой к дальнейшему продвижению, именно к продвижению, потому что слова «карьера» Кулагин не любил и даже наедине с собою никогда его не произносил. В слове этом таилось для него что-то неверное, ненадежное.
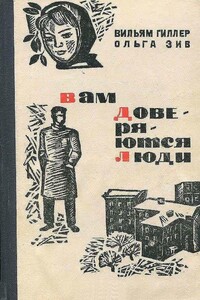
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
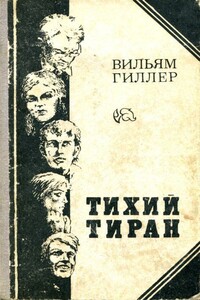
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».