Пока дышу... - [118]
Студенты тихо расходились. Снимая марлевую повязку, Борис Васильевич вдруг узнал в одном парне, остановившемся прямо против него, Славу Кулагина.
Совершенно механически, даже не удивившись его присутствию, Борис Васильевич кивнул парню головой. Слава почему-то не уходил. Что за чертовщина! Зачем он здесь? Именно в такой момент.
История с тампоном, которую внешне Архипов перенес, по мнению всех, кто о ней знал, удивительно стойко и спокойно, на самом деле глубоко его ранила. В молодости он, быть может, и не переживал бы это так болезненно, но тогда у него подобных ляпсусов не случалось. А сейчас каждый промах, каждая ошибка, без которых ни в жизни, ни в работе никто не обходится, — сейчас этот случай унижал его в собственных глазах, напоминал о старости, толкал к мысли: не пора ли?..
— А вы что здесь делаете? — не скрывая раздражения, спросил Архипов Славу. — Как вы сюда попали? И к чему этот маскарад?
Слава несколько мгновений молча вопросительно смотрел на Бориса Васильевича своими великолепными глазами. Выражение доверия и некоторой восторженности сменилось на его лице замкнутостью. Видимо, парень обиделся.
— Я здесь по блату, — сказал он тихо, поглаживая отворотик своего белого халата. — Простите меня, Борис Васильевич. И этот маскарад вынужденный — без халата меня бы не пропустили…
— Знаете что, Слава, — проговорил после некоторого молчания Архипов, но уже гораздо более миролюбиво. — У меня сегодня страшный день, я невыносимо устал и просто не в силах ни с кем разговаривать. До свидания.
Он коротко кивнул, повернулся и пошел из операционной. Он шел нескончаемо длинным коридором, заглянул в комнату отдыха. Рязанцева там не было. Под старым раскидистым филодендроном с корнями, похожими на высохших змеек, сидел старик в халате, надетом на пижаму, — видно, старая кровь не грела. Старик ничего не делал, не читал, а смотрел в окно на закат.
В палатах уже смеркалось, в конце коридора над столиком дежурной сестры зажглась затененная пустой историей болезни лампочка, слышались голоса, кто-то весело смеялся.
Обычная больничная жизнь!
Бориса Васильевича не развеяла пешая прогулка. Домой он пришел невеселый. Жена открыла дверь, поглядела внимательно, но расспрашивать не стала, и он был ей благодарен за это.
От ужина отказался, сказав, что поест позднее, и пошел к себе, разделся, надел тапочки, походил по комнате, постоял у окна. Закат и в самом деле был интересный — косо идущие багровые полосы и легкий розовый след от невидимого самолета.
Ему во что бы то ни стало хотелось отвлечься, заставить себя не думать о Тимофееве, о тампоне, о неполучившемся разговоре с этим мальчиком. Все это осталось уже позади, да, в сущности, и не было в этом ничего важного, особенно если взглянуть из Галактики.
Но из Галактики ему не дано было глядеть.
За долгие годы Софья Степановна привыкла без особого труда разбираться в причинах подавленного настроения мужа, благо, бывало это не так уж часто. Борис Васильевич в общем-то принадлежал к тем неисправимым оптимистам, для которых зал бывает не полупустым, а наполовину полным.
Почти каждая предстоящая операция его, естественно, тревожила. Он тяжело переживал и непредвиденные осложнения и хотя вполне научно и логично мотивировал их тем, что в живом организме всего предусмотреть невозможно, заканчивал разговор обычно упреками в свой адрес: дескать, данного, конкретного осложнения он мог ожидать и опасаться. И, придя к такому выводу, мрачнел, начинал ворчать, требовал, чтобы его оставили в покое, наливал в термос горячий кофе и отправлялся с ним к себе в комнату.
А Софья Степановна, несмотря на свой трезвый ум и рассудительность, ни при каких обстоятельствах не могла поверить в то, что ее муж допустил ошибку или оплошность. Вероятно, он раз и навсегда запечатлелся в ее сознании тем молодым, решительным и удивительно удачливым фронтовым хирургом, под чьим началом она служила и воевала. Видно, не зря говорят, что хорошего командира солдат всю жизнь помнит.
Однако переживал ли он действительную неудачу или то, в чем решительно не должен был себя винить, но такие периоды бывали. А ведь он уже далеко не молод, и сердце у него — всего-навсего обыкновенное человеческое сердце, за которое Софья Степановна имела все основания беспокоиться.
В периоды его тяжелого настроения в квартире как-то сама собою воцарялась полная тишина. В кабинет Архипова никто не заходил, и лишь Софья Степановна изредка приближалась к двери, прислушивалась, но не слышала ничего, кроме чирканья спичек, — в эти дни он много курил и много молчал. Или ходил из угла в угол, и она слышала его неторопливые шаги; или вставал из-за стола, и она слышала шум отодвигаемого кресла; или лез за какой-нибудь книгой, стоящей высоко на стеллаже, и она слышала скрежет стремянки. А иногда доносились обрывки телефонных разговоров: звонил в клинику или звонили из клиники.
«Нет, не так-то это легко, быть женой врача, — думала она порою, бессильная как-то ему помочь. — Только и остается делать вид, будто не видишь, как мечется он по ночам в постели и глотает таблетки…»
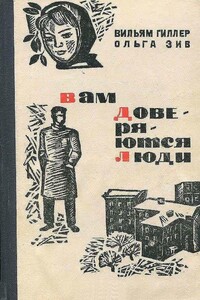
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
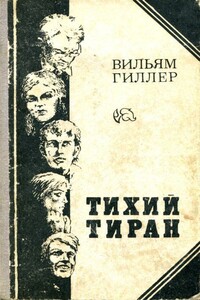
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».