Пока дышу... - [102]
— Неспокойный человек? — заинтересовался Цветков, прервав монолог ректора.
Тот словно от сна очнулся.
— Есть маленько, — нерешительно подтвердил он, думая, что, пожалуй, напрасно так уж выкладывает перед Цветковым все карты.
— А в разведку ты бы с кем из них пошел? — задал он неожиданный вопрос.
— Да отстань ты от меня с этой разведкой! — искренне рассердился Прямков. — Тоже мне критерий! Ты лучше спроси, к кому из них я бы на стол лег. Так вот — к Архипову! Потому что хоть и он от беды не гарантирован, но, по крайней мере, будет действовать, ответственности не побоится. Не знаю, Цветков, как ты, но я лично, по чести сказать, боюсь слишком осторожных хирургов. Наполеон здорово сказал: генерал, который уж слишком заботится о резервах, непременно будет разбит.
— Ну что ж, дружище, для первого, так сказать, экспромта ты изрядно высказался, — серьезно подытожил Цветков. — Выходит, что хорошо бы обоих назначить, — нечто вроде директории. Но, поскольку это невозможно, надо тебе, Иван Тимофеевич, подумать…
— Вот именно! Думать, а не вырывать из горла непродуманные характеристики!
Цветков засмеялся.
— Никто у тебя ничего не вырвал, ты сам вдруг разговорился. А насчет необдуманных характеристик — извини, Иван Тимофеевич, не верю. Необдуманных слов от тебя отродясь не слыхал.
Прямков и в самом деле к любой бумажке, которую ему приходилось подписывать, к любому отзыву, которого от него ждали, относился чрезвычайно осторожно и не вдруг ставил свою подпись и не вдруг высказывался. Он не был трусом, нет. Просто не раз бывал свидетелем того, как опрометчиво данная бумажка тормозит продвижение хорошему человеку или, наоборот, открывает путь карьеристу и бездари. Таких случаев повидал он за долгие годы своего ректорства великое множество.
Кулагина он приветствовал, выйдя из-за стола, с искренним радушием. Все, что он только что сказал Цветкову об Архипове, о своем доверии к нему как к хирургу, было истинной правдой. Но у Кулагина, помимо прочих данных, было еще одно, которое трудно сформулировать в официально-деловом разговоре, но которое имеет немалое значение. Кулагин, что называется, производил впечатление. Он умел нравиться, умел влиять на психологию больного, а ведь это так важно в медицинской практике. Он очень популярен. И в то же время, если к Архипову настойчиво просятся те, кого он когда-то оперировал или лечил, то слава Кулагина более, если можно так выразиться, летуча. О нем говорят. У него почти не бывает неудачных операций. Но п о с л е него согласны пойти к другому.
«Красив, седой черт! — без зависти подумал Прямков, когда Кулагин картинно расположился в кресле. — Бабы небось мрут и млеют. Впрочем, в молодости и его Анна, надо думать, была хороша. Просто обветшала прежде времени…»
— Хотите — сердитесь, хотите — нет, — неторопливо доставая свой плоский портсигар, сказал Кулагин. — Зашел просто так. На минутку. Перед отпуском, конечно, явлюсь еще раз пред светлые очи начальства, но это уже официально. А сейчас — просто так. — И вопросительно посмотрел на ректора, спрашивая разрешения закурить.
— Ну разумеется, пожалуйста! — без слов понял его Прямков и, улыбаясь, добавил: — Куда вам еще в отпуск, Сергей Сергеевич? Вы и так цветете. На месте Анны Ивановны я б вас одного никуда не отпускал.
Кулагин раскатисто рассмеялся:
— Эх, Иван Тимофеевич! Стар я стал для всяческих эскапад!
И так естественно прозвучали у него эти слова, что Прямков подумал: может, и правда он весь в своей науке? Таких одержимых женщины не волнуют…
Они перебрасывались ничего не значащими репликами, а Прямков тем временем отдыхал от напряженной беседы с Минздравом.
Сегодня Кулагин особенно ему нравился, и было какое-то неприятное чувство: вот сидит перед ним симпатичный человек, а у него, у Прямкова, за пазухой спрятан хоть и маленький, но все же камушек, который придется бросить, как бы это ни было неприятно.
— Да, Иван Тимофеевич, слышали вы об этой неприятной архиповской истории? Там у него какая-то глупость с тампоном произошла. Дело пустое, с каждым может случиться, но надо бы все-таки, чтоб нелепая эта история не получила огласки. Борис Васильевич уважаемый и, смею думать, всеми нами любимый человек, прекрасный хирург, — к чему зря трепать его имя? Мне сказала об этом моя ассистентка, секретарь партбюро Крупина, — вы ее знаете. Что ей это дело известно — не страшно, но ведь из-за подобных анекдотических сенсаций иной раз забывают все заслуги врача, перечеркивают его доброе имя.
— Я уже слышал об этом злосчастном тампоне, — со вздохом сказал Прямков, — но не перебивал вас, чтобы понять вашу точку зрения. Вы правы, конечно, это чепуха, но лучше, если бы ее не было. Особенно сейчас, — подчеркнул он, и в Кулагине вспыхнул и погас огонек — маленький сигнальчик предостережения: «Больше говорить не надо!»
— Вы намекните там при случае и Горохову вашему, чтоб, так сказать, не смаковали, — продолжал ректор. — Я Архипова не оправдываю, однако и заслуг его забывать тоже не могу, не имею морального права.
Вообще-то Прямков не предполагал ни с Кулагиным и ни с кем другим обсуждать этот случай, но Сергей Сергеевич порадовал его правильной реакцией на досадный инцидент. Молодец!
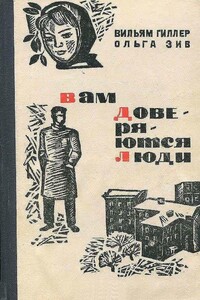
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
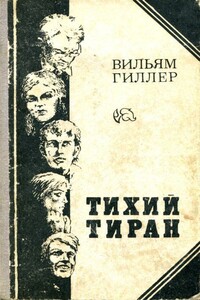
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».