Пока дышу... - [100]
— Ну, ну, голубка моя, Тамара Савельевна, — сказал, улыбаясь, Кулагин. — Какая вы еще девочка все-таки! Позовет дело — и пойдете! Далеко пойдете! Вы — молодые, за вами будущее. Да, так что же у Архипова?
— Тампон в полости забыл.
Кулагин перестал шутить, смеяться. Ушам своим не поверил. Впрочем, потряс его отнюдь не самый факт. При всей внешней экстраординарности, случаи такие бывали, и не столь редко, как это могло бы показаться непосвященной, так сказать, публике. В сравнительно недавние времена, когда в ране копался один хирург, это вообще бы не так уж и удивило. Хирург тоже не машина. Но сейчас, когда не одна пара глаз и не один, добавим, аппарат следят за больным, этого, пожалуй, могло бы не быть, хотя теоретически любого хирурга может подстеречь такая нелепая неприятность. Не это потрясло Кулагина, а то, до чего же некстати сейчас профессору Архипову такой номер. Поставив себя на место Бориса Васильевича, Кулагин прямо за голову схватился. Воистину — судьба!
— Да не волнуйтесь вы так, Сергей Сергеевич! — сказала Крупина. — Ну что уж такого особенного? Бывает же! Знала бы — не говорила.
— Но как это стало известно? — спросил Кулагин.
— В ночное дежурство Горохова привезли больного, Тимофеева. Выяснилось, что две недели назад Архипов его оперировал — удалил почку. Сначала Горохов подумал, что непроходимость, пришлось вызвать Бориса Васильевича. Ну и пошло… Архипов, конечно, забрал Тимофеева к себе.
— Ну и что?
— Ну и вскрыл. И все уже в порядке. Перестаньте волноваться, Сергей Сергеевич, — настойчиво повторила Крупина. — Ей-богу, Горохова послушать, так Архипов переживал меньше, чем вы.
— Но под каким же предлогом он его вторично оперировал, Тимофеева этого?
— Да без всякого предлога. Вскрыл — и все.
— С ума сойти! — помолчав и вздыхая, проговорил Кулагин. Он как будто даже устал от этого неожиданного известия. — У нас, как говорится, не соскучишься. Ну ладно, милая Тамара Савельевна. Утомил я вас сегодня. Идите…
…Бывают поступки, которые человек совершает вопреки только что принятому обдуманному решению.
После встречи с Синявиным Кулагин твердо решил ни в коем случае не ходить к ректору Прямкову сейчас, когда все только и говорят о будущем НИИ. Во всяком случае, Сергей Сергеевич был уверен, что все говорят, и в действиях своих исходил именно из этой уверенности. Он привык, что в общем-то не ошибался в оценке тех или иных ситуаций на своем служебном поприще, ему была ясна и стратегия и тактика, какие следовало применять в создавшемся положении, хотя четко сформулировать их он, пожалуй, не сумел бы, во всяком случае сразу, в тот момент, когда его об этом спросили бы. Ну, а подумав? Подумав, он бы, вероятно, улыбнулся и сказал, что прежде всего намерен свести к нулю неполадки в собственном институте. Никаких, как говорят, накладок быть вообще не должно, а уж в такое время — тем более. А во-вторых? Во-вторых, ни в коем случае не следует попусту попадаться на глаза начальству. Ректор Прямков хоть и небольшое начальство и далеко не все от него зависит — он лишь первая инстанция, — но и к нему, пожалуй, не стоит заходить. Пусть бумаги к нему ходят. Надо бы сейчас премировать одного-двух сотрудников, надо что-то выбить для них у Прямкова. Ну и благодарят они пусть Прямкова. Он далек от простых людей, его, беднягу, благодарят не часто, и он это заметит.
Можно не сомневаться, что Горохов съездит в район с толком. Голова и руки у парня отличные, не хватает характера. Впрочем, нет, и характера избыток, дисциплинки нет. Но это дело наживное. Надо будет послать отчет о его поездке в более подробном виде. Но опять же он, Кулагин, не станет этим заниматься — пусть бумаги сами идут, а он, черт возьми, на юг! Ведь если будет новое назначение, скоро не вырвешься.
Все было ясно, все было правильно, но после разговора с Крупиной Кулагин, твердо решив не ходить к Прямкову, без всякой подготовки, почти без всякого предлога, именно к нему и направился.
Кабинет ректора помещался на четвертом этаже. Был у него, как и положено начальству, «предбанник», как шутили в институте, «новейшей конструкции», потому что выгородили его из крохотного коридорчика.
Кулагину вспомнилось, как однажды, и притом вполне серьезно, Горохов читал похвальные слова «предбанникам», утверждая, что придуманы они исключительно ради того, чтобы оградить самолюбие человека: выговоры, которые будут делать ему, не услышит никто другой.
К Кулагину это, конечно, не имело отношения: и он сам, и вся его кафедра были на наилучшем счету. Почему же все-таки он волновался, идя к Прямкову?
Сергей Сергеевич и сам не мог объяснить своей тревоги. Почему-то вспомнилось ему, что звонила жена и просила его позвонить домой. Не это ли его взволновало? Нет, вряд ли. Аня, правда, никогда в клинику не звонит, но ведь если сама звонила, значит, ничего с нею не случилось…
На третьем этаже Сергей Сергеевич остановился у окна покурить, и если бы кто-то увидел его сейчас, то подумал бы, что это зелень сада и яркие овалы клумб привлекли внимание профессора, так спокойно было его лицо, так безмятежно-плавны кольца дыма от папиросы.
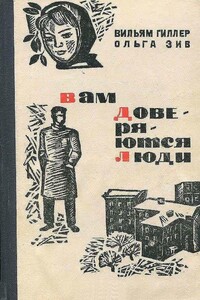
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
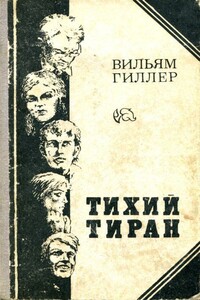
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».