Пока дышу... - [99]
Прослушав пленку еще и еще раз, Сергей Сергеевич успокоился. Нет, решительно ничего здесь нет такого, чему он, Кулагин, или кто-либо другой мог бы поучиться. И все же, возвращая весь материал Крупиной, Сергей Сергеевич сказал:
— С удовольствием ознакомился. Очень хороши у него, знаете ли, экскурсы во фронтовой опыт. Сначала, если начистоту говорить, они показались мне несколько примитивными, а потом вижу — нет! Хороши! Уж что-что, а патриотизм они воспитывают.
И Тамара Савельевна ответила так, что Кулагину стало неприятно.
— Да, — сказала она. — Я часто думаю, чем он берет студентов. Но знаете, Сергей Сергеевич, по-моему, не фронтовыми эпизодами, — этого было бы мало. Он их искренностью берет. Он читает, будто и ему самому все это внове, и ужасно интересно, и неожиданно. Говорят, между прочим, что он действительно перед каждой лекцией волнуется, а уж перед новым потоком — и вовсе. Странно, правда? Такой немолодой, опытный человек…
Слова эти были неприятны Кулагину тем более, что подтверждали его собственные догадки о популярности Архипова. Но он все-таки возразил:
— Нет, не скажите, Тамара Савельевна. Искренность искренностью, взволнованность взволнованностью, но дело не только в этом. Дело в том еще, что во фронтовых эпизодах — великолепная биография самого Архипова. Мне, к примеру, похвастаться нечем. Я не оперировал на войне, не лечил и дневника не вел — мне нечего было записывать. Я был, как миллионы других, простым солдатом на переднем крае. Да и то очень недолго.
— Знаю, Сергей Сергеевич! Знаю, хотя просто не могу себе этого представить! — с чувством сказала Крупина. — Про Архипова могу, а про вас — нет.
— Слишком партикулярно выгляжу? — пошутил Кулагин.
— Нет, совсем не то, — смутилась она. — Я просто думаю: какая ужасная это вещь — война. Ведь вот вы же могли бы не уцелеть!
— Ну, а Архипов? Он тем более мог не уцелеть, — возразил Кулагин.
Тамара Савельевна покраснела — не нашла что ответить, и он отметил это не без удовольствия. Он смотрел на нее сейчас с удивлявшим его самого теплом. Так мог бы он смотреть на дочь, если б дал ему бог дочь и не было бы между ним и этой дочерью какой-то невидимой борьбы, какой-то невидимой преграды, которая — он чувствовал это все острее с каждым днем — в какой-то злосчастный, неуловимый миг возникла между ним и сыном.
Да, почти с отцовской любовью смотрел Сергей Сергеевич на высокий, несколько излишне высокий лоб Тамары, на ее широко открытые глаза, в которых ясно читалось: ну что вы! — можно ли сравнивать объективную ценность Б. В. Архипова и С. С. Кулагина?! Да, оба, конечно, профессора, оба читают лекции, однако при всем при том…
— При всем при том, при всем при том, при всем притом, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бёрнс — поэтом, — неожиданно и нараспев выпалил Кулагин пришедшую на ум старую пародию.
Крупина улыбнулась. Она любила, когда Сергей Сергеевич был веселым. И пускай Архипов ей очень нравился, и пускай она ни слова не могла бы сказать о нем неуважительно, но ей всегда казалось, что у Кулагина больше данных, больше блеска, больше творческих возможностей. Архипов как-то весь на земле, и на этой земле он очень много делает для тех, кто сейчас, сегодня по ней ходит. А Сергей Сергеевич — в полете и, вероятно, половины еще не сделал того, на что способен, потому что ужасно загружен каждодневной суетой. По отношению к такому человеку, как он, это, конечно, нехозяйственно, просто нерационально!
— У Архипова случай каверзный на днях произошел, — сказала Крупина, задумчиво раскладывая в хронологическом порядке папки со стенограммами.
Настроение у Кулагина уже исправилось. Он наблюдал за Тамарой с какой-то внутренней усмешкой: ее неудержимое стремление к порядку, эта точность, пунктуальность, дотошность в каких-то ситуациях личной, а тем более интимной жизни, вероятно, могли бы оказаться нестерпимыми. Это хоть от какой красавицы оттолкнет!
— Тамара Савельевна, — сказал он, — я, как вы знаете, скоро в отпуск. И очень прошу вас — последите за Федором Григорьевичем в том смысле, чтоб документацию не запускал, и вообще. Вы же знаете, что он у нас нередко в эмпиреях витает… Как говорится, свой глаз — алмаз, а ведь вас я считаю своим человеком. Не хотелось бы, чтоб какие-нибудь неполадки у нас обнаружились: о НИИ всерьез поговаривают. Мне-то что! Я о вас всех думаю. Говорят, приедет какой-то большой, знающий человек из центра, возглавит этот НИИ, но ведь весь штат-аппарат он с собой не повезет, будет здесь набирать. А оттуда, где есть неполадки, обычно брать не хотят, потому что считается, и не без основания, что неполадки-то от людей.
— Я никуда от вас не пойду, — заявила Крупина, с тревогой выслушав объяснения Кулагина по поводу НИИ. Во всей этой ситуации, о которой медики города уже давно поговаривали, ее тревожило только одно: не забрали бы в НИИ Сергея Сергеевича. А уж коль скоро эта опасность не грозит, все остальное ее мало волнует. Она хочет работать с профессором Кулагиным, она верит и ему и в него, она знает, что и сама, на своем месте, делает пусть небольшое, но нужное дело. Разве это так мало?
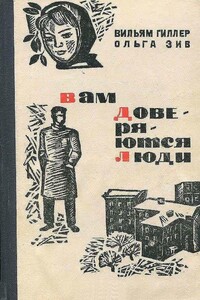
Москва 1959–1960 годов. Мирное, спокойное время. А между тем ни на день, ни на час не прекращается напряженнейшее сражение за человеческую жизнь. Сражение это ведут медики — люди благородной и самоотверженной профессии. В новой больнице, которую возглавил бывший полковник медицинской службы Степняк, скрещиваются разные и нелегкие судьбы тех, кого лечат, и тех, кто лечит. Здесь, не зная покоя, хирурги, терапевты, сестры, нянечки творят чудо воскрешения из мертвых. Здесь властвует высокогуманистический закон советской медицины: мало лечить, даже очень хорошо лечить больного, — надо еще любить его.

Действие в книге Вильяма Ефимовича Гиллера происходит во время Великой Отечественной войны. В основе повествования — личные воспоминания автора.

Вильям Гиллер (1909—1981), бывший военный врач Советской Армии, автор нескольких произведений о событиях Великой Отечественной войны, рассказывает в этой книге о двух днях работы прифронтового госпиталя в начале 1943 года. Это правдивый рассказ о том тяжелом, самоотверженном, сопряженном со смертельным риском труде, который лег на плечи наших врачей, медицинских сестер, санитаров, спасавших жизнь и возвращавших в строй раненых советских воинов. Среди персонажей повести — раненые немецкие пленные, брошенные фашистами при отступлении.
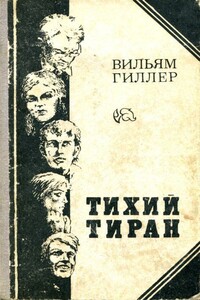
Новый роман Вильяма Гиллера «Тихий тиран» — о напряженном труде советских хирургов, работающих в одном научно-исследовательском институте. В центре внимания писателя — судьба людей, непримиримость врачей ко всему тому, что противоречит принципам коммунистической морали.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».