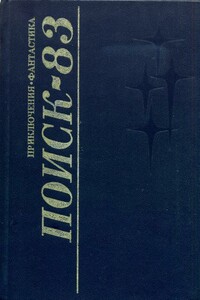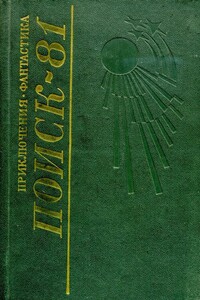Поиск-86: Приключения. Фантастика - [13]
— Э, чернолицый, пэча вола, — окликнул негромко медведя. Тот вскинул морду, замер. — Здравствуй, говорю, сын Нум Торыма, брат людей нашего рода, — чуть громче, стараясь произносить слова четко и уверенно, повторил Еремей.
Медведь заворчал, колыхнулся, хотел встать на дыбы.
— Не надо, пупи, не боюсь. Дедушка сказал: если хозяин не будет слушаться, возьми у него жизнь, — мальчик передернул затвор карабина. — А я не хочу убивать тебя. Ты отец урта Сатара, наш отец. Нельзя нам убивать друг друга. Иди отсюда, пупи. Здесь мое место. Мне его дедушка, Большой Ефрем-ики, отдал. Знаешь моего дедушку? Вот его ремень, посмотри… — Не спуская палец с курка и зажав приклад под мышкой, провел левой рукой по поясу, потрогал-поперебирал медвежьи клыки. — Видишь, сколько зубов твоих братьев? Хочешь, чтоб и твои тут висели?.. Рано еще тебе умирать. Вон какой ты сильный, молодой, тебе жить надо. Иди, пупи, нечего тебе тут больше делать!
Медведь нехотя повернулся — лунный свет полосой скользнул по его спине — и поплелся назад, в урман, исчезая в полумраке, сливаясь с ним, словно испаряясь.
Мальчик беззвучно засмеялся, глубоко и облегченно вздохнул и, резко развернувшись, вскинул карабин, выстрелил почти не целясь в еле различимый на другом берегу речки свежеошкуренный шест, которым измерял глубину. Шест переломился; оглушающий раскат выстрела, пометавшись по поляне, скатился вниз по реке. И как только затихло вдали слабое эхо, с низовьев Куип-лор ягуна донеслось из тайги еле слышимое: «Ермейка-а-а…»
Еремей, приоткрыв рот, вытянув шею, недоверчиво прислушался.
Крик повторился, но уже громче, ближе. Еще раз — еще ближе…
Взлохмаченный, растрепанный Антошка Сардаков вылетел на поляну, проскочил с разгону несколько шагов, но, увидев Еремея, сразу обмяк, обессилел. Хватая ртом воздух, опустился, словно подламываясь, около костерка.
— Беда, Ермейка… Большая беда… Там, — судорожно махнул рукой за спину, — там твоего отца убили… Дедушку, Большого Ефрема-ики, бьют…
Еремей дернулся, сшиб рогульку — котелок опрокинулся на угли. Белый толстый столб пара с шипеньем рванулся вверх, ударил в лицо мальчика. Он отшатнулся, зажал глаза ладонями.
— Кто убил?! За что?
— Русики… С ружьями, — зло ответил Антошка. — Отец говорит, при колочаках с Астахом-сыном ходили, бога Сусе Криста люди были. А сейчас не знаю кто: сесеры какие-то…
— Рассказывай!
Антошка, глядя в костер, начал рассказывать срывающимся голосом о том, как подплыли ранним утром к их стойбищу пятеро русских: начальник Арчев, трое мужиков и Кирюшка, который служил раньше у купца Астаха. Русики держались по-доброму, большие листы бумажных денег дали, новые деньги — двухголовая птица на них без царской шапки, голая; еще соли немного дали, топор новый дали, две свечки — не жадные русики, богато одарили. Отца просили, чтобы показал, где Большой Ефрем-ики живет. Отец не соглашался. Нельзя, говорил, Ефрем-ики запретил, рассердится. А когда поели, когда русики его водкой напоили, добрый стал, веселый — согласился. Его, Антошку, послал, чтобы в протоках дорогу к Сатарам показал. Четверо русики поехали, пятый, Иван, остался…
— Чего им от дедушки надо? — резко перебил Еремей.
— На имынг тахи велели отвести. На эвыт Нум Торыма. А Большой Ефрем-ики… Не живой он уже, наверное, — и, не совладав с собой, Антошка всхлипнул.
Еремей запрокинул голову, зажмурился, задержал дыхание. Потом снял с себя пояс отца, протянул Антошке.
— Возьми. Ты теперь братом мне стал. — И приказал: — Поешь!
— Не, не хочу, — Антошка, застегивая пряжку ремня, вскинул на Еремея преданные глаза. — Некогда есть.
— Ешь! — прикрикнул Еремей. — Много ешь, чтобы долго не захотеть… — и начал собирать поклажу.
Антошка выдернул из деревянного чехла-сотыпа нож, отпластал от живота осетра лоскут нежной, жирной мякоти, вцепился в него зубами. Давясь, не прожевывая, глотал пищу — торопился насытиться. А Еремей подхватил с земли тынзян, смотал его кольцами, накинул через голову на плечо. Принес в котелке воды, залил, окутываясь паром, костер.
Антошка вскочил и, дожевывая, вытирая ладонями рот, принялся затаптывать угли.
— Хватит! — Еремей поднял карабин, поправляя ремень. Протянул Антошке топор. — Пошли…
Всю ночь, не останавливаясь, отдыхая на ходу, когда переходили на размеренный шаг, бежали они к стойбищу: то трусцой, то рысцой, а где и изо всех сил — в сосновом бору, чистом, без валежин и бурелома, кромкой болота по тропе, пробитой лосями среди осин и ольхи.
К ельнику, прикрывающему Сатарват, вышли под утро, когда истаял, поблек обласок луны и стала набухать заря.
Антошка спотыкался, брел уже из последних сил, дышал часто, загнанно. На опушке ельника Еремей, бесшумно хватая ртом воздух, умоляюще посмотрел на Антошку. Обхватил его за плечи, прижал лицом к груди. Зашептал просительно, поглаживая по голове, по худенькой спине:
— Потерпи, потерпи… Нельзя нам отдыхать, нельзя садиться. Не встанем.
И вдруг с удивлением почувствовал, что тело названного брата отяжелело, стало сползать вниз. Еремей крепко обнял его, удержал, слегка приподнял голову Антошки за подбородок. Антошка спал.

«…Толпа затихла, точно околдованная угрюмыми звуками дикарских слов. Искры от разгоревшихся вовсю факелов рвались в темноту, тяжелый бок жертвенника фантастически багровел, отражая мотающееся на ветру пламя.— Восславим Сатану! Восславим! — пронзительно и властно крикнул человек в белом. — Утолим его жажду!— Крови! — трескуче ахнуло по всей поляне. — Крови!..»Что это, сцена из глубины веков? Увы, нет… Действие открывающей «Поиск-92» повести А. Крашенинникова «Обряд», откуда взят этот отрывок, развертывается по сути в наши дни, а точнее — в самом недалеком завтра.

М.3. РЕЙХЕРТ. ВЫЗОВ СЕРОГО БОГАЗа помощь древних богов приходится платить по слишком высокому счету.Сергей ЛУКЬЯНЕНКО. ИНКВИЗИТОРЕсли вы столкнулись в подъезде с незнакомцем, сжимающим деревянный кинжал, не пугайтесь — возможно, он пришел не за вами… Детективная повесть в стиле городской фэнтези.Марина и Сергей ДЯЧЕНКО. ТРОНИзвестные украинские прозаики задумались: какие неведомые силы таятся в детской игре?Нельсон БОНД. ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГОО пользе определителей телефонных номеров. Знай герой рассказа, откуда звонит ему старинный приятель, возможно, не случилось бы то, что случилось…Майк РЕЗНИК.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
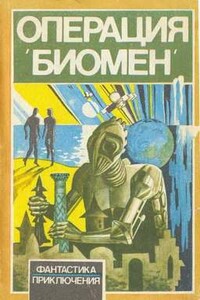
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Вы можете видеть это - вы можете смотреть это - но не должны трогать!» И что может быть более расстраивающим ... когда вам нужно, совершенно необходимо, взять его в руки всего на одну секунду ... Об авторе: Стивен Каллис (Stephen A. Kallis, Jr. - 1937 г.р.) - американский писатель, автор нескольких фантастических рассказов и статей.

Профессор Стивенс твердо намерен отыскать следы затонувшей страны наследников Атлантиды и снаряжает новейшую подводную лодку в экспедицию. Когда субмарина отчалила в свое необычайное путешествие, на ее борту находился безбилетный пассажир — начинающий репортер Ларри Хантер…
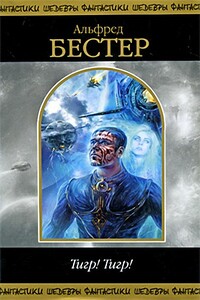
Альфред Бестер — великий экспериментатор и великий разрушитель традиций. Чарлз Грэнвилл обычный двадцатипятилетний молодой человек, мечтающий о карьере практикующего врача, о скорой женитьбе и хорошем стабильном будущем. Единственное его отличие в том, что он способен слышать музыку и чувствовать поэзию в повседневной реальности и даже в ирреальности собственных снов. И именно ему возможно предначертано пошатнуть вселенскую гармонию и стать тем мессией, который выберет среди аверсной и реверсной вселенных ту, которая и станет единственно существующей.
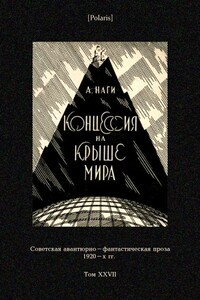
Американский ученый и изобретатель Мак-Кертик получает концессию на добычу уникального памирского теллита. Новооткрытый металл не только сулит переворот в технике — толстосумам из США во главе с миллиардером Морганом он обещает победу над ненавистной Евразией, ставшей к 1945 году союзом советских государств.
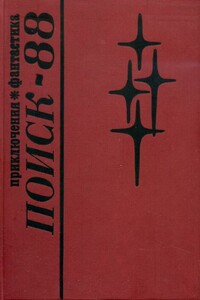
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.