Переговоры - [26]
2. На самом деле то, что можно назвать идеями, — это инстанции, которые осуществляются иногда в образах, иногда в функциях, иногда в концептах. То, что осуществляет идею, — это знак. В кино образы являются знаками. Знаки — это образы, рассматриваемые с точки зрения их композиции и происхождения. Понятие знака меня всегда интересовало. Кино порождает свои собственные знаки, и их классификация принадлежит ему, но как только оно произвело их на свет, они рассыпаются повсюду, и мир принимается сам «создавать кино». Если я использовал Пирса, то потому, что у него есть глубокие мысли об образах и знаках. Вместе с тем, если семиотика, вдохновленная лингвистикой, и тревожит меня, то именно потому, что она упраздняет и понятие образа, и понятие знака. Она сводит образ к высказыванию, что мне кажется очень странным, и с этого момента неизбежно обнаруживает языковые операции, скрывающиеся за высказыванием, — синтагмы, парадигмы, означающее. Именно этот фокус и предполагает, что движение следует заключить в скобки. Кино — это в первую очередь образ-движение: здесь нет даже «отношения» между образом и движением, кино создает само-движение образа. Затем, когда кино осуществляет свою «кантианскую революцию», т. е. когда оно перестает подчинять время движению, когда оно делает движение зависимым от времени (ложное движение как представление отношений времени), с этого момента кинематографический образ становится образом-временем, определенной автотемпорализацией образа. Вопрос не в том, чтобы узнать, не обладает ли кино претензией на универсальность. Это вопрос не об универсальном, а о сингулярном: каковы сингулярности образа? Образ является фигурой, которая ограничивает саму себя, и не потому что она представляет универсальное, а благодаря своим внутренним сингулярностям, точкам сингулярности, которые эта фигура связывает: например, рациональные разрывы, которые Эйзенштейн ввел в свою теорию образа-движения, или иррациональные разрывы образа-времени.
3, 4 и 5. Действительно, здесь есть собственно философская проблема: является ли «воображаемое» пригодным для использования концептом? В первую очередь здесь есть пара «реальное — ирреальное». Можно определить ее на манер Бергсона: реальное — это законное соединение, сцепление, длящееся в настоящем; ирреальное — появляется в сознании внезапно и периодически, оно виртуально в той мере, в какой актуализируется. И затем есть еще одна пара: «истинное — ложное». Реальное и ирреальное всегда различны, но различие между ними не всегда различимо: ложное — это когда различие между реальным и ирреальным неразличимо. Но именно тогда, когда есть ложное, истинное, в свою очередь, не играет решающей роли. Ложное не является путаницей или ошибкой; это власть, которая отводит истинному роль ничего не решающего элемента.
Воображаемое — очень сложное понятие, потому что оно находится на пересечении этих двух пар. Воображаемое — это не ирреальное, но неразличимость реального и ирреального. Эти два термина не соответствуют друг другу, они остаются различными, но не перестают обмениваться своими различиями. Это хорошо видно в феномене кристалла с его тремя аспектами: есть обмен между актуальным и виртуальным образом, виртуальное становится актуальным, и наоборот; есть также обмен между прозрачным и непроницаемым, непроницаемое становится прозрачным, и наоборот; наконец, есть обмен между завязью кристалла и средой. Я полагаю, что воображаемое и является совокупностью таких обменов. Воображаемое — это образ-кристалл. Он сыграл решающую роль в современном кино: в самых разных формах его можно найти у Офюльса, у Ренуара, у Феллини, у Висконти, у Тарковского, у Занусси…
И потом есть то, что видят в кристалле. То, что видят в кристалле, — это ложное, или, скорее, власть ложного. Власть ложного — это время собственной персоной, не потому что содержание времени изменчиво, но потому что форма времени подобна становлению, которое ставит под сомнение любую формальную модель истинного. Именно это и происходит в кино времени, вначале у Уэллса, затем у Рене, у Роб-Грийе: это кино, где ничего не решается. Короче, воображаемое сводится не к означающему, а к представлению о чистом времени.
Поэтому я не придаю большого значения понятию воображаемого. С одной стороны, оно предполагает определенную кристаллизацию: физическую, химическую или психическую; оно ничего не определяет, но само определяется через образ как цепочку обмена; воображать — значит создавать образы-кристаллы, заставить образ функционировать как кристалл. Это не воображаемое, это кристалл имеет эвристическую функцию в соответствии с тремя своими цепями: актуальное — виртуальное, прозрачное — непроницаемое, завязь — среда. А с другой стороны, ценность кристалла сводится к тому, что в нем видят, что превосходит воображаемое. То, что видят в кристалле, — это время, ставшее автономным, независимым от движения, отношения времени, которые не перестают производить ложное движение. Я не верю во власть воображаемого, в мечту, в фантазм и т. д. Воображаемое — это слабо определенное понятие. Оно должно быть жестко обусловлено: его предпосылка — это кристалл, а безусловное, до которого мы поднимаемся, — это время.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
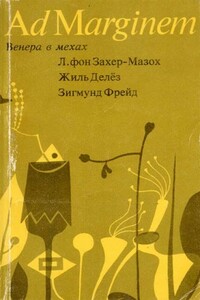
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
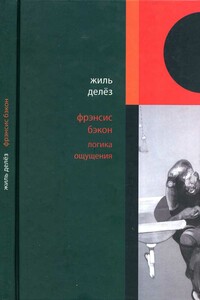
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
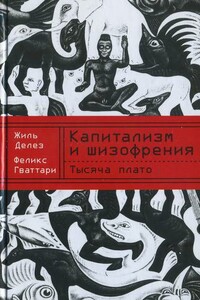
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
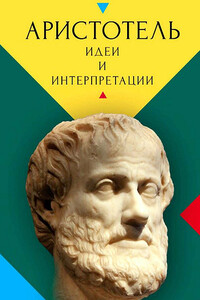
В книге публикуются результаты историко-философских исследований концепций Аристотеля и его последователей, а также комментированные переводы их сочинений. Показаны особенности усвоения, влияния и трансформации аристотелевских идей не только в ранний период развития европейской науки и культуры, но и в более поздние эпохи — Средние века и Новое время. Обсуждаются впервые переведенные на русский язык ранние биографии Аристотеля. Анализируются те теории аристотелевской натурфилософии, которые имеют отношение к человеку и его телу. Издание подготовлено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), в рамках Проекта (№ 15-18-30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе». Рецензенты: Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Репина Л.П. Доктор философских наук Мамчур Е.А. Под общей редакцией М.С.
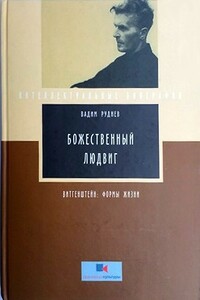
Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
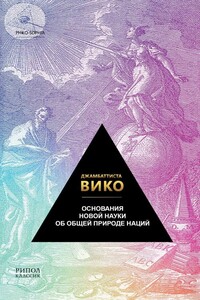
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.
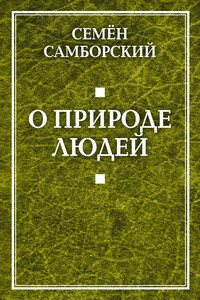
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
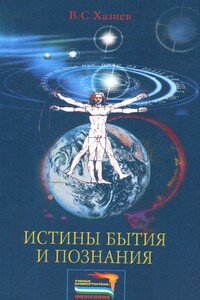
Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.