Переговоры - [25]
2. Ваше мышление, скрепленное скобкой Бергсон-кино, оперирует категориями (эстетическими) и сущностями (философскими), которые вы в конце концов квалифицируете как идеи в платоновском смысле термина. С другой стороны, полностью отвергая семиологический анализ кино, вы признаете общую семиологию знаков, которую предлагает Пирс.
Не кажется ли вам, что кино обладает особым предназначением вновь активизировать, и даже механическим способом, мышление о субстанциальном и универсальном? Каковы, в границах понятий образ-движение и образ-время, факторы, поддерживающие эту концепцию кино? И еще, каким является отношение образа и движения в понятии образа-движения?
3. В рамках вашего анализа кино вы никогда не используете термин «воображаемое», широко употребляемый в других исследованиях для того, чтобы квалифицировать язык кинематографа. В чем причины такого уклонения? Ваши рассуждения о роли света в конфигурации фильма, ваша обворожительная гипотеза о взгляде, который уже имеется в образе, — не могли бы они позволить вам набросать свою концепцию воображаемого?
4. Вообще говоря, нет ли у понятия воображаемого, частично меняющегося в различных дисциплинах, своего места и в области философии? Как бы вы определили его?
5. Не способен ли ваш анализ кино привести вас к точному определению эвристической функции воображаемого в вашем собственном исследовании (включая и исследования кино), а также в вашей практике письма?
1. Идея открытой тотальности имеет собственно кинематографический смысл. На самом деле, когда образ является движением, образы не связываются друг с другом не интериоризируясь в некоторое целое, которое само экстериоризируется в связанных образах. Эйзенштейн создал теорию этой цепочки образ — целое, где каждый элемент активизирует другой: целое меняется в то же самое время, что и связанные им образы. Он обращается к диалектике. И на практике, согласно его теории, это отношение план — монтаж.
Но кино не исчерпывается одной моделью открытой тотальности в движении. Его не только можно понять при помощи способа, который ни в коей мере не является диалектическим (в американском, немецком, французском довоенном кино), но послевоенное кино вообще ставит под сомнение саму эту модель. Это оказывается возможным, потому что кинематографический образ перестает быть образом-движением, чтобы стать образом-временем, что я и пытаюсь показать во второй книге. Модель целого, открытой тотальности предполагает, что соизмеримые отношения или рациональные разрывы существуют между образами, а также внутри самого образа и между образом и целым. Это является даже условием существования самой открытой тотальности; Эйзенштейн делает из этого четкую теорию золотого сечения, и эта теория не «заброшена», она глубоко связана с его практикой и даже вообще с практикой довоенного кино. Если кино послевоенного времени порывает с этой моделью, то как раз потому, что оно оказывается вынужденным демонстрировать все виды иррациональных разрывов, несоизмеримых отношений между образами. Ложные рак-корды оказываются законом (опасным законом, потому что ложный раккорд может дать осечку точно так же, как и правильный, и даже скорее, чем правильный).
Здесь же обнаруживаются и парадоксальные совокупности. Но если иррациональные разрывы становятся важными, то на первом месте оказывается уже не образ-движение; это, скорее, образ-время. С этой точки зрения модель открытой совокупности, которая является следствием движения, уже теряет свою ценность: больше нет тотализации, интериоризации в целое, экстериоризации целого. Нет больше и объединения образов посредством рациональных разрывов, но есть их разъединение через разрывы иррациональные (Рене, Годар). Это иной кинематографический режим, где раскрываются парадоксы языка. На самом деле первое звуковое кино поддержало, как мне кажется, приоритет визуального образа; оно сделало из звука новое, четвертое, измерение визуального образа, чаще всего достойное восхищения. Напротив, говорящее послевоенное кино стремится к автономии звука, к иррациональному разрыву между звуком и видимостью (Штрауб, Сиберберг[44], Дюрас[45]). Уже нет тотализации, потому что время перестает быть следствием движения и средством его измерения, оно демонстрируется само по себе и вызывает ложные движения.
Таким образом, я не считаю, что кино всегда связано с моделью открытой тотальности. У него была эта модель, но у него были, и будут, и другие модели; их столько, сколько оно сможет создать. С другой стороны, нет такой модели, которая принадлежала бы только одной дисциплине или только одному знанию. И меня интересуют эти резонансы; каждая область обладает своими ритмами, своей историей, своей эволюцией, своими сдвигами и мутациями. Искусство сможет получить приоритет и вбросить какую-либо мутацию, которую другие подхватят при условии, что они сделают это при помощи своих собственных средств. Например, философия провела в определенный момент изменение в отношении пространство — время; возможно, кино делает то же самое, но в другом контексте, следуя иной истории. В таком случае решающие события этих двух историй вступают в резонанс, хотя они и нисколько не похожи друг на друга. Кино — это определенный тип образа. Между различными типами эстетических образов, научных функций, философских концептов, существуют течения взаимного обмена независимо от любого приоритета вообще. У Брессона существуют разорванные пространства с тактильными раккордами, у Рене есть вероятностные и топологические пространства, которые имеют свое соответствие в физике и математике, но кино конструирует их на свой манер («Люблю тебя, люблю»

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
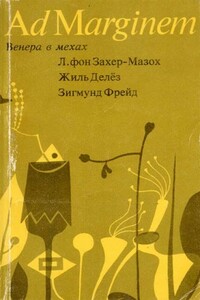
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
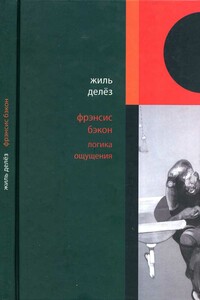
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
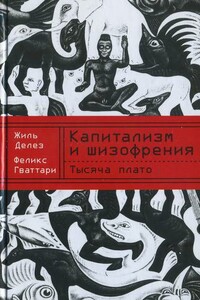
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.