Перед грозой - [4]
Селение негромких голосов. Селение, где всегда тихо. За исключением, впрочем, воскресений — по утрам, не позже полудня. Тогда поток бурлящей крови, поток голосов и разноцветья разольется по путям-дорогам, по улицам, хлынет на площадь, на паперть приходской церкви, заставит ожить погребки, постоялые дворы и лавки. Цветиста река, течение которой не растворяется в тусклых стоячих водах и не уносит их с собой. Прослушают мессу, запасутся всем нужным на неделю — и направятся восвояси по своим ранчо, мужчины с уверенной походкой и зычными голосами, женщины в ярких, пестрых, похрустывающих от крахмала юбках апельсинового, розового, красноватого, лилового цвета, в поскрипывающих туфлях, ревущие младенцы, наездники-чаррос на конях, цокающих подковами. Они покинут селение безмолвных вечеров, женщин в вечном трауре, монотонных колокольных перезвонов; оставив горы мусора, который заботливые обитатели селения поторопятся подмести. И всю неделю погребки и постоялые дворы будут зевать от скуки.
Погребки и постоялые дворы обычно пустуют. Селение лежит в стороне от больших проезжих дорог. Иной раз, под конец дня, заедет какой-нибудь коммивояжер либо судебный чиновник, либо переночует «нарочный», выполняющий чье-то поручение, тот или иной заказ для богатого соседа. В селении нет удобных гостиниц или пансионов для гостя. Да и само понятие удобства здесь незнакомо. Жизнь не должна баловать.
Пища весьма скромна. К полудню — мясная похлебка, лапша или рисовый суп, мясо с овощами, с горохом, бобы; утром и вечером — горячий напиток из растертых плодов дерева какао, молоко и хлеб. Хлеб тут пекут отменный, ароматом его пропитан вечерний воздух.
Люди живут на то, что родит земля. Выращивают много маиса. Хотя собирают лишь один урожай в году. По всей округе нет ни оросительных каналов, ни плотин. Беспрестанная тревога из-за вечной засухи сказывается на душевном настрое обитателей селения. Хлебопеки, плотники, кузнецы и кожевники, несколько гончаров, четверо сапожников, мясник, трое шорников, двое портных, много знахарей, кое-кто из писарей, пятеро Цирюльников — все вносят посильную лепту, чтобы поддержать жизнь селения. Но не забудьте и о загребущих лапах ростовщиков, — их здесь хватает, — повсюду они торчат, как белесые надгробья.
Самые бедные жители, однако, живут сколько им отмерено судьбой, хоть и приходится им порой круто. По в этих краях еще никто не умирал с голоду. И богатые здесь не знают счастья, не ропщут на судьбу, не ропщут на судьбу и бедняки. Покоряться судьбе — первейшая добродетель этих людей, которые, вообще-то говоря, не зарятся на большее, предпочитая просто жить, пока не пробьет час благословенной смерти. И само существование для них — как перекинутый мостик: пройдешь по нему — и всему конец. Такие мысли да царящая тут извечная сушь покрывают налетом преждевременной старости и само селение, и его дома, и его жителей: люди скупы здесь на излияния, доброго слова не услышишь; здесь веет духом обманутых надежд, духом черствости, и это роднит людей с окружающим пейзажем, выработанными до конца и брошенными каменоломнями. Природа и людские души — одно целое. Светящийся мрак, словно нескончаемые сумерки, словно тлеющий под пеплом уголь. И то же самое — в глазах, на губах, в тесаном камне, в деревянных проемах окон и дверей, в высохшей темно-бурой земле. Непроницаемые лица, невнятные жесты. Здесь не спешат на что-нибудь ре-, шиться и говорят, делают, ходят — всё не спеша. Не спеша, но уверенно. — Всю ночь я об этом думал… — Поговорим завтра не торопясь… — В наступающем году… — Как начнется засуха… — Как польют дожди… с божьей помощью… Ежели к тому времени не умрем…
Иссушенное селение. Без деревьев, без огородов, без садов. Иссохшее до боли. Без слез в рыданиях. Без нищих и попрошаек. К богачу бедняк обращается с чувством собственного достоинства, преисполненный уважения к самому себе, и это достоинство и самоуважение близки к высокомерию. Четыре всадника равны друг другу, в любых условиях. Каждый живет по-своему, чувствуя себя свободным, никому не будучи обязан и никому не подчиняясь. — Этот не хочет меня взять в арендаторы, что ж, договорюсь с другим… — Тот задрал нос, разговаривал со мной свысока, ну и пусть катится… — Спрячьте ваши денежки, не стану я из-за них надрываться… Покой лучше богатства…
Иссушенное селение. Однако в большие праздники — в святой четверг, четверг тела Христова, месяц Марии, в успение богоматери, в воскресенье доброго пастыря, восьмого и двенадцатого декабря[1] — цветы, распустившиеся во внутренних двориках-патио, вырываются из заточения и устремляются по улицам к церкви; цветы изысканные и скромные — магнолии, страстоцвет, лилии, герани, нарды, далии, маргаритки, мальвы, гвоздики, фиалки, выращенные тайком, орошенные водой, с трудом добытой из глубоких колодцев; никогда в какой-либо иной день не выходят на свет божий эти домашние затаенные сокровища, драгоценности скрытой нежности. Отчужденность и грубость отступают и в тяжкие часы человеческих бед — горя, невзгод, болезней, смерти; протягиваются руки, увлажняются глаза, теплеют слова, открываются дома, люди навещают друг друга. Но едва минуют горестные дни, души вновь бесстрастно замыкаются в себе.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
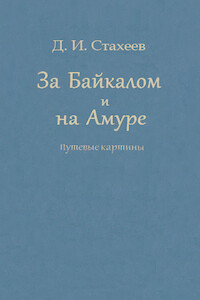
Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем.
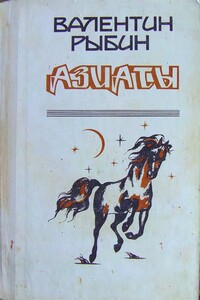
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стефан Цвейг — австрийский прозаик, публицист, критик, автор множества новелл, ряда романов и беллетризованных биографий. В 1920-х он стал ошеломляюще знаменит. Со свойственной ему трезвостью Цвейг объяснял успех прежде всего заботой о читателе: подобно скульптору, он, автор, отсекал лишнее от первоначального текста, превращая его в емкую небольшую книгу.Перевод с немецкого П. С. Бернштейна.
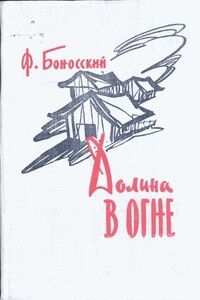
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.