Перед грозой - [2]
, — их приглушенно твердят разные голоса. Облысевшие старики, крестьяне и их жены, пробуждающиеся ни свет ни заря, преклоняют колени у погруженных в темноту постелей, одеваются, чиркают спичками, быть может, позевывают, пока бормочут молитвенные слова, а тем временем колокол хрипло и неторопливо гудит, величественный, гнетущий.
Брачные узы освящаются на ранних мессах. В потемках. Либо как только прояснится на небосклоне, едва-едва. Будто есть в этом что-то постыдное. Тайное. Бракосочетаниям никогда не присуща торжественность похорон, заупокойных служб, молебствия над гробом, когда колокола протяжно стонут, словно затягивая дымной пеленой небеса, а трое священников и четверо певчих с клироса, в пышных черных одеяниях, среди сотен горящих свечей, под псалмопение и удары колокола выходят на паперть, шествуют по улицам — на кладбище.
Во время агонии колокольный звон взывает ко всем жителям — будь они у себя, в патио, на площади, на улицах, в спальнях, — призывает молиться за умирающего. И обитатели селения творят молитву «Отойди, душа христианина, из сего мира…», а также молитву святой плащаницы.
Жизнь отлетает, и колокола сменяют свой ритм, — люди понимают, что еще одна душа предстает перед суровым судией. Общей скорбью объяты улицы, лавки, дома. Удаляются те, кто помогал умирающему достойно встретить кончину; другие же, более близкие, остаются, чтобы одеть покойника, лишь истечет положенное время — пока не свершится суд праведный, но до того, как тело остынет.
Колокола звонят по воскресеньям и по праздникам. А также вечером по четвергам. Веселее звонят колокола, лишь отбивая часы в солнечные дни. Солнце — это радость селения, радость, почти неведомая, утаиваемая, как и изъявление всех прочих чувств, желаний, порывов души.
По эти чувства, желания, порывы, равно как и страхи, тревога, дают о себе знать временами, они взмахивают невидимыми — точно у тела в саване — руками в наглухо запертых дверях и окнах, в глазах женщин, носящих вечный траур, в их торопливых шажках по улице, в их крепко сжатых губах, в сосредоточенности мужчин, в молчании детей.
Скрежещут в дверных замках, скрипят в несмазанных оконных петлях страсти — смутные желания, алчные вожделения, — и вместе с ними страхи, тревога; и ощущаешь их дух, единственно им присущий дух, отдающий потом, соленым потом, — в уголках исповедален, в потемневших часовенках, в купелях для крещения, в чашах со святой водой в вечернюю пору; а на улицах — в любой час дня, в глубоком полуденном покое. По всему селению и во всякое время чувствуешь привкус соли, запах сырости, нераспознаваемое присутствие чего-то землистого, тоскливого, что никогда не выходит наружу, никогда не убивает, однако чужаку от него перехватывает горло, а местным жителям оно вроде как услада самобичевания.
В лунные ночи страхи и страсти все же прорываются — мчатся что есть мочи; можно расслышать их поспешный бег, их полет — надсадный, надрывный — вдоль улиц, над стенами, над крышами. Развеваются в воздухе смирительные рубахи, судорожно дергающиеся рукава и полы бьются о дома; молчалив полет слепой черной птицы с крыльями вампира, совы или стервятника, а может, с крыльями голубки, да, глупой голубки, которая только что вылетела из неволи, но затем обязательно вернется — опять за решетку. Лунными ночами страсти всегда одерживают верх, опережают, а страхи гонятся за ними, угрожая, заклиная не торопиться, пронзительно визжа — зовом неразличимого, но буйного ветра. Страсти перелетают со света в тень, из тени на свет, и тщетно страхи стараются догнать их. Почти полночи длится этот древний танец. А на рассвете, когда в небе еще видна луна, когда колокол бьет зорю, возобновляется пляска страстей и страхов. Утро приносит победу последним, и весь день напролет они будут упиваться ею, повиснув над папертью, над улицами, над площадью, в то время как страсти покоятся погребенными на щеках, на губах, под веками, на лбу, в ладонях, таятся в морщинах и морщинках или прячутся в сумеречных спальнях, исходя потом, пропитывающим воздух селения.
Лунными ночами в домах на окраине, — хотя, кому известно, быть может, и за стенами какого-либо из домов посреди селения, — звучат под сурдинку струны гитар: их чрево полно безысходной тоской, и струны — это языки тайных желаний. Лунными ночами затягивают в укромных погребках непристойную песню, песню, заставляющую содрогнуться от страха — всадника тайных желаний. Лунными ночами источают нежную грусть обезвоженные водоемы на площади, чьи камни, даже камни томятся несбыточными помыслами и жаждой милосердия также несбыточной. Эти водоемы никогда — ни лунными ночами, ни даже самой черной, непроглядной ночью — не слышали любовных речей; никогда не бывало близ них никого и ничего, кроме желаний, замерших в одиночестве; никогда на их камни не присаживались влюбленные, сплетая пальцы в лихорадочном порыве. Сухие водоемы, полированные временем камни…
И когда идет дождь, и в те часы, когда льет как из ведра, и после дождя, в запахе мокрых стен, отсыревших деревьев и луж на улице, и ночами, изнемогающими в ожидании грозы, и пасмурным утром, и в дни, когда без конца моросит или стоит угнетающая жара (невыносимая жара), и холодными ночами, когда столь прозрачен зимний воздух
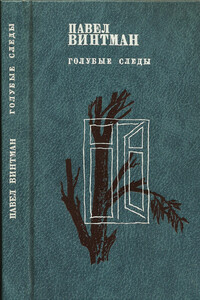
В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.
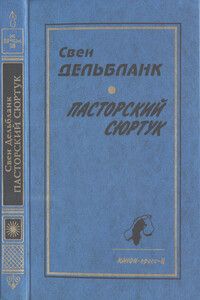
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
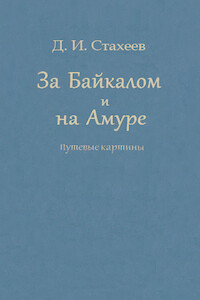
Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем.
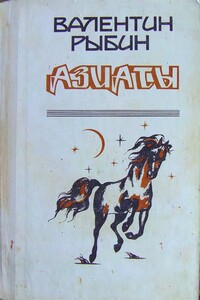
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.