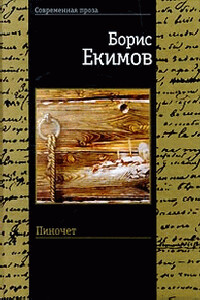Озеро Дербень - [11]
— Конечно. Без Скоробогатова в Лучке нельзя. Ты прав. Я к вам, считай, по такому делу и заехал. Будем мы в том году перспективный план утверждать по развитию колхоза. Надо бы вам собраться, старым учителям, и подумать. Вот наши девять хуторов. Каких-то мы все равно будем лишаться. Прикинуть, на наш взгляд, каких. А какие остаются, об них подумать. Где учителя в годах, кем заменить. Подобрать девчонушку из хуторской фамилии, из хорошей. В общем, прикинуть на будущее.
Потом, вечером в доме, дед Тимофей вспоминал:
— Чигаров у меня после войны семилетку кончал. Хорошие ребята, а сколь досталось им. Я в сорок третьем пришел в декабре, немцев только от хутора отогнали. Числа двадцатого. Школа голая, одни стены. Без окон стоит, без дверей. А мы через десять дней уже елку делали и первого января начали учиться. Учителя и ребята все сделали. Столы, скамейки — собирали, где могли, сами ладили. Об окнах думали-думали, чем их закрыть. Вот, по-моему, Чигаров и придумал: аэродром был рядом, немцами брошенный. Там нашли фотопленку, в рулонах, с самолетов-разведчиков, «рам». Привезли ее, отмывали в корытах — и вместо стекол. Под ветром они трещат, но привыкли. Так и учились. Первого января начали и программу закончили вовремя.
Дед Тимофей никак не мог улечься. Альбомы листал-листал, нашел старую фотографию и дал Алексею.
— Вот наш коллектив, военный. Это Евгения Павловна. А вот Чигаров.
Алексей поглядел фотографию, потом на деда взглянул и сказал:
— Ты, дедуня, ложись. А то ты больно шустрый. Только поднялся.
Дед Тимофей согласно покивал головой:
— Да, да… — Но и в постели он не мог успокоиться. — Я хочу, Алеша, чтобы ты понял. Дело в человеке, в его желании, остальное приложится. Все будет. Захочешь — все будет. Вот в ту пору, в войну, начали мы ребят учить. Все нище, голо. В ту весну на Дербене вода стояла высокая. Солонцы над старицей знаешь?
— Знаю, — ответил Алексей.
— Там же никогда ничего не сажали, не растет. А нам земли надо много и свободной. Вода стояла долго. Мы решили поднять солонцы. Школой. Были у меня нитки фильдеперсовые. Я из них сетей навязал. Как вода начала спадать, я до уроков рыбу наловлю, техничкам принесу, они варят уху. Время голодное, только из-под немцев вышли. После школы ребят ведем копать. Уху похлебают, каждому по рыбке. Правда, без соли. У кого дома есть, приносят, присаливают. Поели — и копать. Копали и копали. Христа ради семена собрали. Говорю: просите у матерей сколько можно. Все пойдет, лишь бы земля не гуляла. Приносят по горсточке. Я кукурузы привез. Все засеяли. Свеклой, тыквой, арбузами, дынями и много кукурузы. И собрали такой урожай, небывалый. Ребятам выдали, учителей поддержали, да еще продали почти на двадцать тысяч. Купили на эти деньги лошадь и стали королями, — потряс кулаком дед Тимофей. — Вот так!
Алексей сидел рядом с кроватью, слушал и, понимая, что деду вредно волноваться, все же не останавливал его.
— Алеша, пойми, я это не в укор вам, молодым. Живите лучше нас. Дай бог. Но не хнычьте по мелочам. Крупнее надо, по-человечески. Особенно в нашем деле, в учительском, должна быть жертвенность. Понял? Без нее учителя нет. Вон Василий Андреевич в тридцатых годах в Крутом хуторе учительствовал. Голодал, но детей не бросил. Чует, что совсем плохо, на день-другой прибредет к отцу с матерью и назад. Дети там, понял? Не зарплата. Не та пачка махры, что платили. Или фунт синьки… Или как нам после войны. Получишь четыреста рублей — купишь кусок мыла. Все. А кормишься от земли, от своих рук. А учительство не бросили. Потому что это дети… Радость. Счастье нашей работы — в них. Мы — счастливые люди, это я точно знаю сейчас. Счастливые…
Дед Тимофей поднялся на подушках выше, попросил:
— Открой окно.
— Открыто.
— И дверь.
Алексей отворил окна и двери, впуская в дом мягкое рокотание озерной воды и свежесть ее.
Деду стало легче. Он прикрыл глаза и, задремывая, проговорил:
— Шумит… Шумит…
Алексей потушил свет, посидел недолго во тьме и вышел во двор, в сад. Шумело озеро. Молодые голоса звенели вдали, возле клуба. Набирала силу осенняя ночь… Зрели звезды, тяжеля и пригибая небесные ветви. И казалось, уже на земных ветвях пылали плоды холодного мироздания: голубая Вега, Денеб, Альтаир и лучистая золотая Капелла, словно спелая груша.
А груш земных уже миновала пора. Лишь под старой «зиминкой» можно было сыскать сладкий плод и смаковать его, вспоминая август. Но лишь давний. В нынешний и прошлый август Алексею не пришлось побывать здесь. И отаву дед Тимофей косил один. Хотя любил Алексей эту пору на исходе лета. Но вот не пришлось.
В детстве дербеневское лето разворачивалось, словно волшебный плат, даря в свой черед жданные радости: щавель, «китушки», сладкий горох, сенокос, землянику, первый мед, вишню, яблоки, потом арбузята — день за днем.
Теперь пришла иная пора. Алексей прилетал, окунался в дербеневские живые воды и мчал прочь.
И в ночи в пустом осеннем саду пришла мысль, которая какой уже день пугливым ночным зверьком просилась в душу: остаться на хуторе.
Остаться на хуторе и жить. Работать в школе, рядом с дедом Тимофеем. Дом, сад, огород, Дербень-озеро, тихие поля, небо — чего еще надо?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…
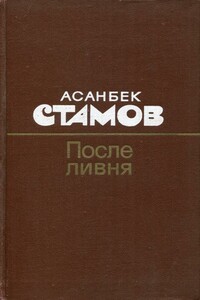
В первую книгу киргизского писателя, выходящую на русском языке, включены три повести. «Сказание о Чу» и «После ливня» составляют своего рода дилогию, посвященную современной Киргизии, сюжеты их связаны судьбой одного героя — молодого художника. Повесть «Новый родственник», удостоенная литературной премии комсомола Киргизии, переносит нас в послевоенное киргизское село, где разворачивается драматическая история любви.
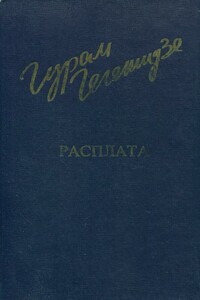
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Константинович Сверстников вошел вслед за Михаилом Федоровичем Курочкиным в небольшой, но довольно уютный кабинет. — Вот отсюда и управляй. Еще раз поздравляю с назначением в нашу газету, — сказал Курочкин и заложил руки в карманы, расставил ноги и повернул голову к окну. У Курочкина давно выпали волосы, голова блестит, как арбуз, на добродушном скуластом лице выделяется крупный нос.

В книгу Василе Василаке, оригинального и интересного современного прозаика, вошли романы «Пастораль с лебедем», «Сказка про белого бычка и серого пуделя» и повести «Элегия для Анны-Марии», «Улыбка Вишну». В них рассказывается о молдавском селе, о тесном, чрезвычайно причудливом сочетании в нем уходящей старины и самой современной новизны, сложившихся традиций и нынешних навыков жизни.