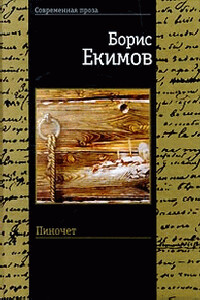Озеро Дербень - [9]
Стемнело. Через раскрытые двери тянуло сладким духом петуний, табака, а следом от двора соседского приплыл запах печеного, такой явственный, горячий, что Алексей шумно нюхал воздух, причмокивая.
— Можно войти? — послышался с крыльца девичий голос.
— Заходи, заходи, Катя! — крикнул дед.
Алексей пошел навстречу, включая в комнатах электричество.
Катерина с четвертью молока и блюдом печеных калачиков вошла в дом.
— Дедушке, — сказала она, — и вам.
— И нам? — переспросил Алексей. — Дедуня, Катерина меня забыла, на «вы», видите ли…
— Это она из уважения к твоей ученой степени. Спасибо, Катюша. Люблю преснушки. Садись посиди.
Катерина, выросшая у деда с бабкой, без матери, была в той милой девичьей поре, когда все к месту и кстати: загар, обветренные губы, полнота лица, кудельки на висках.
— Так почему ты со мной так холодна, Катерина?
— В отвычку, — ответила Катерина.
— Тогда прощаю.
Девушка училась в лесном техникуме, в райцентре, уже оканчивая его.
— Куда же тебя пошлют? В тайгу?
— В наш лесхоз.
— А в тайгу не хочешь?
— Ну ее. Мне и здесь хорошо.
— Молодец, — похвалил дед Тимофей. — У нас тоже дел хватит. Дубы, Алеша, сохнут.
— Почему?
— Кто знает. Почему, Катя?
— Точно как сказать… Атарщиков, мартыновский лесничий, говорит: уходит живая вода.
— А что? Он прав, — поддержал дед Тимофей. — Живая вода, родниковая, уходит. На смену ей мертвая, стоки всякие. А дуб — самое чуткое дерево.
— В Мартыновский лес, на Бузулук, в выходной сходить… — сказал Алексей. — Пошли, Катерина?
Алексею представился крутой изгиб Бузулука, белый песок, тугая стремнина воды и Мартыновский лес — самый большой в округе.
— Атарщикова давно не видал. Сходим? — снова спросил он Катерину. — Или Тамарку запряжем.
— Поедем, — согласилась Катерина. — Там белых грибов много. Да вы молоко пейте и ешьте калачики, пока горячие. Давайте я налью.
Деда Тимофея дом был для нее своим, и она принесла кружки, ловко молока налила и ушла.
— У Атарщикова будешь, — сказал дед Тимофей, — пусть приедет: о пчелах хочу посоветоваться. Занесли эту заразу варроатоз. А он что-то придумал.
— Тебе уж с пчелами тяжело, — сказал Алексей. — Может, не будешь держать? Меду найдем.
— Буду, — ответил дед. — Разве в меду дело? Нет, Алеша, ты недопонимаешь. Все это: огород, картошка — это не только хлеб насущный. Пчелы, сад… Я без них прокормлюсь, но не проживу. Это радость, услада. Мы вот в этом году с Василием Андреевичем лагенарию растили. Четырнадцать сантиметров прироста в сутки! — воздел он палец и округлил глаза. — Это чудо! Все эти злаки, животина… Ни мы без них, ни они без нас не проживут. Мы друг для друга живем, радуя и любя. Вот так, Алеша. — Дед Тимофей поднялся и сел, опустив ноги на пол. Ламповый ли, душевный огонь сиял в его глазах. — Ты веришь мне, Алеша?
— Верю, дедуня.
— Верь, верь. Я счастливый человек. Было у меня отнято, да. Войной, черной силой. Но остальные дни я жил хорошо. Много дней. Я сейчас отчетливо вижу: жил и живу в счастье. Наташу встретил, — вспомнил он о покойной жене. — Здесь наша любовь цвела. Боже, боже… Вспоминать — счастье. Наташа ушла, ее нет, и никто не вернет. Но до конца, до последнего шага — кто отнимет у меня счастливую память? Никто. Я вхожу туда и снова живу в тех днях. И снова счастлив. Так будет до последнего вздоха, Алеша.
Алексей подошел, сел на кровать, обнял деда. И тоже стал глядеть на фотографию бабушки, молодой, круглолицей. И похожа она была на ту девушку, что недавно сидела здесь, в комнате. Они смотрели на бабушкин портрет, а потом стали вспоминать былое, кто что помнил. И вспоминали долго. А когда ложились спать, дед Тимофей спросил:
— Окно открыто, Алеша?
— Открыто, открыто…
— Хорошо. Озеро шумит, баюкает. Счастливого сна тебе, Алеша.
И виделись Алексею счастливые сны: в цветах и травах, в диковинных плодах. Красивые лица проплывали: дед, бабушка Наташа, близнецы Белавины, брат и сестра, Катя — счастливые лица в солнечных и звездных лучах. И чьи-то добрые руки его гладили, согревало чье-то дыхание. И воспаряла душа к счастью.
И он плакал во сне.
По выходным часто обедали у соседей.
Евгения Павловна по двору ходила трудно, вперевалочку, жаловалась:
— Целый день топ-топ, топ-топ, а ничего не успеваю.
Когда-то в школе она вела математику, но всю жизнь, по душевной склонности, отличала декабристов, много знала о них, собрала хорошую библиотеку. Появлялось новое и теперь. И, оставляя стол, Евгения Павловна утицей топала в дом и приносила книгу.
— Ученица прислала, — говорила она. — Прекрасные записки Басаргина. Какая добрая душа! Удивительный человек. Его могила…
Супруг ее привязанностей не разделял, подсмеивался:
— В Ленинграде, помню, два дня какую-то могилу искали. — Он был завзятый рыбак, садовод, пчелами занимался, бахчами. — Лет пятнадцать назад… Ты помнишь, Алеша, арбузы у меня были? Большие арбузы, и форма дынеобразная. Очень хороши. Но перевелись, переопылились. Мне бы, дураку, искусственно опылить — и в мешочек, изолировать. Хотя бы два-три плода, для семян.
— Тебе бы все завязывать да привязывать, искусственно да силком, — сердилась Евгения Павловна. — Варварство у тебя в крови. Живую грушу он сверлит, и не болит душа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…
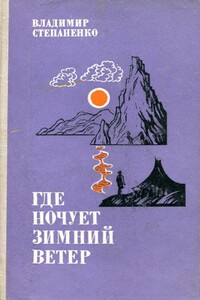
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В повестях калининского прозаика Юрия Козлова с художественной достоверностью прослеживается судьба героев с их детства до времени суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны, когда они, еще не переступив порога юности, добиваются призыва в армию и достойно заменяют погибших на полях сражений отцов и старших братьев. Завершает книгу повесть «Из эвенкийской тетради», герои которой — все те же недавние молодые защитники Родины — приезжают с геологической экспедицией осваивать природные богатства сибирской тайги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.