Отелло. Уклонение луны. Версия Шекспира - [20]
Да, нужен, и еще как! Но вряд ли даже эта нужда заставила бы правителя Венеции говорить с Отелло с таким явным душевным теплом. В крайнем случае дож остался бы дипломатически сдержанным - не проявляя никаких ярких эмоций. Однако в репликах дожа не только нет никакого негативного тона, но, напротив, слышится сочувствие и даже поддержка. Личная симпатия дожа к Отелло проявляется с первой же секунды его появления в зале заседаний.
Вспомним же эту сцену.
Вот Брабанцио и Отелло входят - и наверняка разгневанный сенатор идет впереди, да ему и по статусу положено входить первым, однако дож приветствует не его, а Отелло: "Доблестный Отелло, мы должны немедленно употребить вас в дело против всеобщих врагов - оттоманов".
Доблестный!
Безусловно, в таком определении сказывается и военная угроза, и само ожидание Отелло (ведь за ним специально послали людей). И все-таки "доблестный" - это сейчас не просто вежливое обращение к генералу. Дож Гримани и сам был воином, а если Отелло в 1499 году воевал под его началом, как я предполагаю, то он мог лично наблюдать боевую доблесть мавра и восхищаться этой доблестью, тем более в таких трагических обстоятельствах, как разгром венецианского флота. Сохранение же мавром верности своему опальному адмиралу могло только укрепить искреннюю симпатию дожа к нему.
Брабанцио жалуется дожу на постигшую его беду - дочь околдована и тем похищена у отца ("Она обманута, похищена у меня, испорчена колдовством и купленными у шарлатанов зельями"), да так, что Брабанцио ее чуть ли не хоронит. Дож не на шутку разгневан и обещает ему полную свою поддержку: "Кто бы ни был тот, который этим гнусным способом похитил вашу дочь у нее самой и у вас, вы сами прочтете кровавую книгу закона и сами дадите истолкование его горькой букве, хотя бы наш собственный сын был обвинен вами".
Таким образом, пока субъект неизвестен, дож относится к содеянному как к гнусности и обещает Брабанцио применить к виновному не просто закон, а любую кровавую его часть.
Брабанцио указывает на Отелло - "Вот он, этот человек: это мавр, которого, кажется, особым приказом вы вызвали сюда по государственному делу". Возглас изумления прокатывается по залу.
Дож осторожно обращается к мавру: "Что со своей стороны можете вы сказать?" Брабанцио торопливо перебивает: "Ничего, кроме того, что это так". Отелло с достоинством пропускает эту реплику мимо ушей, однако в ответ говорит о том, что вся его жизнь прошла на войне, поэтому он неискушен в дипломатии и вряд ли сумеет искусно себя защитить, но что он готов прямо и без прикрас рассказать о том, как они полюбили друг друга и что в этом его единственная вина.
Брабанцио буквально не может спокойно это слышать и снова перебивает мавра: "Девушка, такая робкая, столь тихая и спокойная, что собственные душевные порывы заставляли ее краснеть от стыда, - восклицает он, - и чтоб она, наперекор природе, возрасту, отечеству, молве, наперекор всему, влюбилась в то, на что боялась смотреть..." Нет-нет, говорит Брабанцио, такое поведение абсолютно противно разуму, поэтому я "снова утверждаю, что он действовал на нее снадобьями, воспламеняющими кровь, или напитком, заговоренным с этой же целью".
И вот тут следует поразительная реакция дожа!
"Утверждать, - с неприкрытым недовольством говорит он, - это еще не значит доказать, не имея более исчерпывающих и явных улик, чем эти поверхностные малостоящие предположения и общие места, которые здесь выдвинуты против него".
Удивительно!
Еще несколько минут назад он без колебаний и без всяких доказательств готов был отдать обидчика на растерзание Брабанцио. Но теперь, когда выяснилось, что этим обидчиком был Отелло... тот самый мавр, который доблестно сражался и который один из немногих не отрекся от него в тяжелую минуту жизни... теперь он называет обвинения против Отелло всего лишь "предположениями" и "общими местами", которые к тому же "поверхностны" и "малостоящи"!
Нет, не стал бы дож защищать Отелло только потому, что тот был нужен ему в предстоящей турецкой кампании. В конце концов, на Кипре был командир не хуже - Монтано, бывший товарищ Отелло, о котором и сам дож чуть позже скажет: "У нас там есть наместник признанных достоинств".
И уж во всяком случае вовсе необязательно было назначать попавшего в опалу Отелло губернатором Кипра - достаточно было бы просто использовать его военный талант все в том же звании генерала.
Так что дело вовсе не в том, что над венецианскими колониями нависла османская угроза. Просто в душе дожа возникло чувство сострадания к Отелло и острое осознание единения с ним в его трудную минуту - точно так же, как некогда эти же чувства возникли в душе Отелло по отношению к самому дожу.
Перемену в правителе немедленно почувствовал и некий 1-й сенатор - посмотрите, какой спасительный для Отелло, какой подсказывающий оправдательный исход смысловой акцент содержится в его реплике:
"Скажите, Отелло, покорили ли вы и отравили чувства этой юной девушки тайными и насильственными средствами, или произошло это путем мольбы и той прекрасной беседы, которую душа дарит душе?"

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
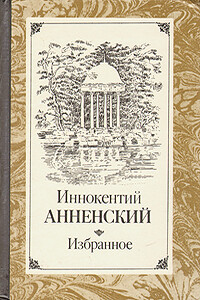
В однотомник И. Анненского, замечательного поэта, критика и переводчика, вошли лучшие его стихи, критические эссе и статьи, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других известных писателей, а также три статьи о Шекспире, Ибсене и Гейне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.