От солнца к солнцу - [5]
…Вот и мыс Юшина. По корабельному радио — команда:
— Дежурным гребцам в шлюпку!
Дежурных набралось больше чем нужно. Еще бы: шлюпка отправляется на лежбище…
Идем в гости к котикам!
На берегу нас ждут двое провожатых.
С одним я уже знаком. Это Сергей Владимирович Мара-ков, молодой ученый-зверовод, начальник научно-наблюдательного пункта. Вместе со своими помощниками, штатными и добровольными, он седьмой год наблюдает за животным миром Командорских островов. Мараков, по его собственному выражению, натуралист с колыбели, хотя родился и вырос в Москве, на Таганке, в семье преподавателя черчения. У него не было сомнений в выборе профессии. Точно так же не колебался он и после окончания пушного института — куда ехать? На Командоры! Вчера в своем домике на берегу океана, пропахшем водорослями, рыбой, звериными шкурами и до потолка набитом чучелами, скелетами, черепами, он рассказывал мне о подсмотренных им повадках котика.
Сергей Владимирович показывал мне свои уникальные фотографии. Вот белый котик! Вряд ли еще где найдется второй такой снимок: котик-альбинос. Явление наиредчайшее. А вот спящий калан! О, Мараков не только сфотографировал его, но и на руках подержал. Немногие могут этим похвастать. Каланы, напуганные когда-то человеком, безжалостно истреблявшим их, из рода в род передают этот свой страх. Нюх у них на человека! Слышат и видят хуже. На берег выбираются редко, спят обычно в воде, вернее, в зарослях морской капусты, завернувшись в ее длинные стелющиеся стебли, как в пеленки. А этот растяпушка дремал на берегу, пригретый солнцем. Пользуясь благоприятным ветром, Сергей Владимирович подкрался поближе, сфотографировал соню и даже приподнял его на ладонях, теплого, мягкого, но тот, сразу продрав глазки, соскользнул мигом в воду — и был таков. Осталось лишь великолепное фото: сладко спящий каланчик. Кажется даже, что он похрапывает…
А вот череп морской коровы! Нет, это не снимок. Настоящий «живой» череп! Трудно переоценить эту находку Марако-ва. Морская корова, из отряда сирен, водившаяся в прошлом стадами возле Командор, подробно описанная Стеллером и оказавшаяся, к несчастью своему, не менее съедобной, чем корова земная, была начисто истреблена промысловиками. От нее и костей не осталось. И вдруг Мараков обнаружил в прибрежных скалах череп морской коровы! Этому экспонату обрадуется любой зоологический музей.
Со вторым провожатым мы не были знакомы, но я слышал о нем. Алексей Степанович Яковлев — мастер котикового промысла. Промысел этот состоит из двух этапов: отгона и забоя. И какой из них легче, трудно сказать. Оба сложные. Сначала зверь не хочет, чтобы его гнали куда-то от берега, всячески сопротивляется этому. И тут может справиться лишь плотная цепь опытных загонщиков, которые с длинными палками-дрыгалками в руках неотвратимо наступают на холостяков, отжимая их все дальше и дальше от моря. А потом загнанный на забойную площадку зверь пробует увернуться от тех же дрыгалок, которыми его глушат по голове, точнее, по носу. Способ довольно примитивный. Но только так можно уберечь от повреждений драгоценную шкуру котика, которую будут затем очищать ножами от жира, вымачивать, солить и укладывать вместе с другими шкурами в бочки для отправки в Ленинград на меховую фабрику… Вот всей этой операцией и руководит Яковлев. Он алеут, бывший в двадцатых годах первым комсомольцем на Командорах. Уезжал на материк. «Целый год, — говорит, — зимовал в Москве, учился на зоотехнических курсах». Он немолод. «Вчера еще было восемнадцать, а сегодня, глядишь, пятьдесят четыре». Но моложав, быстр, ловок в движениях. Говорит тоже быстро-быстро.
— Ох, и холостячков же нынче привалило! Вон они там, за вышкой. Завтра подойдут люди из совхоза, и погоним зверя на забой.
У него, у Яковлева, все уже приготовлено к промыслу: палки-дрыгалки, ножи, соль, бочки.
Снова в шлюпку.
— Пойдем к семейным, — приглашает Мараков. — Холостяков нельзя тревожить перед отгоном.
Что ж, к семейным так к семейным. Они должны быть гостеприимней.
Прихватив на всякий случай дрыгалку, Яковлев показывает рулевому, куда править: к широкому скалистому выступу берега. Там полно огромных бурых тел, похожих на заросшие мхом валуны, но двигающихся, перекатывающихся с боку на бок. Ветер с моря принес к берегу беспокоящие зверей запахи, звуки весельных ударов по воде. И мы слышим, как тревожно ревут секачи, как вторят им, жалобно поблеивая, их подруги.
Высаживаемся. Прячемся за скалу. Нас много, и всем нам нельзя на лежбище. Только Мараков и Яковлев, прихватив с собой фотокорреспондента, приближаются к зверям.
Маракова здесь хорошо знают, он часто навещает семейных. А маленьким он просто первый друг. Малыши все перебывали у него на руках. Сергей Владимирович осуществляет на этом лежбище, если хотите, функции загса. В отношении малышей, конечно. Он регистрирует каждого родившегося котика, прикрепляя ему под передними ластами металлическую бирочку. На бирке слово «Moscow». Так что котик, знайте, не бездомен, у него есть кров, над ним есть опека, и его могут защитить… Яковлев у семейных бывает реже, ему подведомственны холостяки. Ну, а фотограф вовсе лицо тут незнакомое.
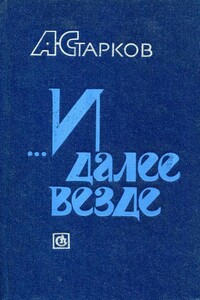
Повесть А. Старкова «...И далее везде» является произведением автобиографическим.А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
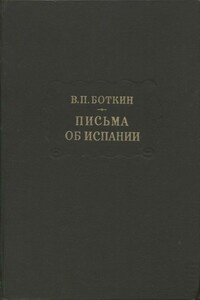
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
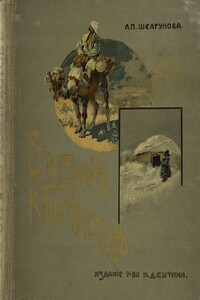
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
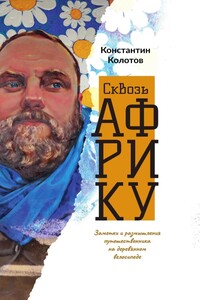
Книга Константина Колотова, современного российского путешественника, отправившегося в кругосветное путешествие на велосипеде, приглашает читателя разделить этот дальний (и до сих пор продолжающийся) путь по величайшим точкам планеты Земля. Настоящая книга призвана показать, что мир бесконечно глубок и прекрасен.
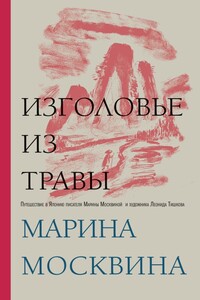
До сих пор Япония для нас – это страна, лежащая за пределами наших представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений. Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио, Киото, Наре, прошли по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях, поднялись на Фудзи – так родилась эта головокружительная книга, где сквозь современность просвечивает образ древней Японии, таинственной земли, по которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и самой любви…
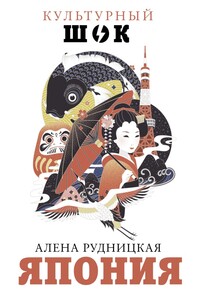
В этой книге россиянка, много лет прожившая и проработавшая в Японии, рассказывает о том, чего нельзя узнать из обычных путеводителей, на что вы вряд ли обратите внимание, даже приехав в Японию в качестве туриста. Как сильно на самом деле отличается японский менталитет от русского и с какими курьезами пришлось столкнуться автору лично и почему.

В этой книге все просто. Никаких “поверните направо, а потом налево”, “здесь вы можете купить магнит, а здесь нет”, “вам стоит посетить историческую постройку никто не помнит какого века”. Об этом много написано и сказано, достаточно заглянуть в Google. Мы с Саньком вернулись из Италии с огромным багажом и ручной кладью крутых эмоций, знакомств и приключений, которыми захотелось поделиться. Написанное ниже будет полезно для начинающих путешественников, любителей приключенческих историй и всех тех, кто не прочь посмеяться над чужими провалами.
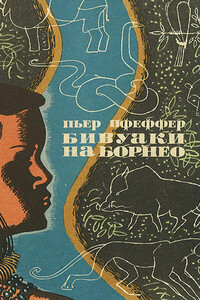
Французский зоолог Пьер Пфеффер (позднее — почетный директор Национального центра по научным исседованиям при Национальном музее естественной истории, почетные президент WWF — Франция) был участником длительной экспедиций в джунгли северо-восточного и центрального Калимантана (Борнео). Многодневное путешествие вверх по рекам Каяну и Бахау и многомесячная жизнь среди коренных обитателей острова — даяков и пунан — превратились в цепь интереснейших приключений, иногда забавных, а иногда и в высшей степени опасных.
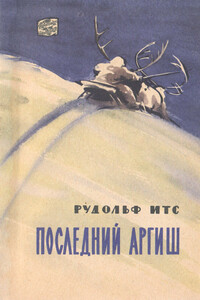
На Туруханском Севере, в безмерной сибирской тайге затеряны стойбища кетов — маленького народа, обреченного в прошлом на вымирание. Советская власть возродила к жизни все народы Сибири и в их числе кетов. Труден и сложен был путь к новому. О прошлом кетов, о становлении их новой жизни рассказывает повесть «Последний аргиш». Ленинградский этнограф Р. Ф. Итс, известный читателю по книге «Цветок лотоса», не один раз участвовал в экспедициях по Туруханскому краю. Знакомство с жизнью, бытом и обычаями кетов, хорошее знание их прошлого, их преданий и легенд позволили автору создать правдивую и увлекательную повесть.
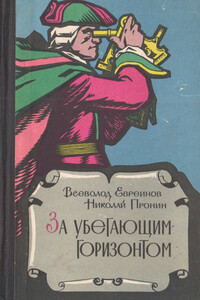
Эта книга об экспедиции выдающегося французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля, совершившего кругосветное путешествие в конце XVIII в. В книге рассказывается о трудностях, выпавших на долю моряков в борьбе со стихийными силами природы, описываются интриги иезуитов, козни придворных сановников — врагов науки и прогресса, препятствовавших успеху экспедиции. Живо даны образы замечательных спутников Бугенвиля — ученых, навигаторов, морских офицеров, матросов; повествуется о судьбе первой женщины, совершившей кругосветное плавание, хитростью попавшей на корабль.
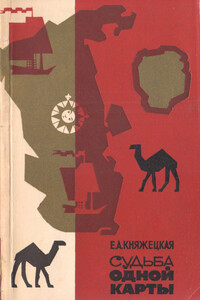
В 1717 г. Петр I передал Французской академии наук первую верную карту Каспийского моря. Ее составителем был Александр Бекович Черкасский — видный государственный деятель петровского времени. Необыкновенная судьба постигла и карту, и самого ее составителя, которому Петр I поручил осуществить свой грандиозный проект — поворот реки Аму-Дарьи в Каспийское море. Черкасский трагически погиб во время Хивинского похода, карта его была предана забвению, и долгое время ее считали утерянной. Лишь в 1951 г.