От солнца к солнцу - [2]
А на земле, которая приютила русских храбрецов в тяжкий час, они оставят погибших товарищей, оставят своего командора. И она уже с той поры не безымянна, эта земля, — стала островом Беринга. И все остальные, лежащие рядом — Медный, Топорков, Сивучий Камень, — тоже теперь острова бесстрашного командора, Командорские острова…
В Петропавловске накануне выхода в море я разговаривал с Иваном Федоровичем Махоркиным, лектором обкома партии. Он много лет работал учителем на острове Беринга в селе Никольском. Махоркин рассказал мне, как перед самой войной он и три его товарища, учителя Захарчук, Бондарь и зверовод Степнов, решили разыскать последнюю стоянку Беринга и его могилу по описанию стоянки и чертежам, сделанным Стеллером, зоологом, участником экспедиции Беринга… Экспедиции Махоркина удивительно повезло. Как только добрались до бухты, начался отлив, оголились рифы, через которые перебросило когда-то «Святого Петра». Неподалеку от рифов торчали из песка одиннадцать пушечных стволов! Одиннадцать пушек из тринадцати, оставленных здесь командой пакетбота. Четырнадцатую моряки увезли с собой после зимовки на Камчатку… Вдохновленные находкой, Махоркин и его друзья начали раскапывать грунт вокруг. И снова находка! Довольно хорошо сохранившийся кусок корабельного киля. Стоянка Беринга, нет сомнения! Оставалось отсчитать 800 шагов до могилы командора в направлении, указанном на чертеже Стеллера. И хотя прямых следов могилы не обнаружилось, водрузили на одном из холмиков деревянный крест с мемориальной дощечкой… О результатах, можно считать, сенсационных поисков сообщили в Петропавловск. Оттуда выехала комиссия. Но до Командор не доехала. Помешала война, корабль с комиссией на борту вернулся в Петропавловск. Только к концу войны начат был новый розыск. Но на этот раз пушки не были обнаружены. Их, видно, так занесло песком, что не помогли даже миноискатели. И скептики вообще уже начали сомневаться в махоркинской находке. Их не устраивали даже снимки, сделанные в свое время Иваном Федоровичем. Подавай сами пушки! И вот через полтора года сам океан подал их «на блюдечке» — те же одиннадцать. Комиссия, уже третья по счету, составила акт, и находку закрепили, так сказать, документально. Но было также установлено, что, разыскивая могилу Беринга, Махоркин с товарищами ошиблись. Ошиблись на четыре с половиной шага. Не дошли до останков командора вот эти четыре с половиной шага. Теперь на этом месте тоже крест, но не деревянный — железный. А пушки? Две в Петропавловске-на-Камчатке возле памятника Берингу. Две в селе Никольском у клуба. Одна увезена в Данию, на родину Беринга. А остальные по-прежнему в бухте Командора, на месте его последней стоянки…
Пока я размышлял о прошлом и вспоминал рассказанное Иваном Федоровичем Махоркиным, наш корабль успел уже войти на рейд острова Беринга и отдать якорь. К причалу нельзя — мелко. К нам опешит, пыхтя, мотобот «Витус Беринг». Пересаживаемся. На борту его терпко пахнет рыбой! Видно, суденышко только с лова. На крюке, прибитом к мачте, висит длинное багровое, не успевшее еще провялиться сердце морского котика. Значит, промысел зверя уже начался. Может быть, нам удастся попасть на лежбище.
А пока надо бы пристать к берегу. Это не так просто — отлив в самом разгаре, и даже мотоботу не подойти сейчас к пристани. Снова пересаживаемся, на этот раз в плоскодонную лодчонку. Прошмыгнув между камней, она ткнулась носом в песок, и мы ступили на землю Командора!
Село обычное: только что лежит вдоль океана, а в остальном, вроде, такое, каких тысячи на материке. Вьются дымки над трубами. Сушится на веревках белье. Журчит ключевая вода, замолкая уже в колонке. Постукивает молот в кузнице.
Вот и маленькое уличное происшествие. По деревянному настилу ковыляет гусиная стайка, ведомая горделивым вожаком, а навстречу другая ватажка — ребята из детского сада, вышедшие на прогулку. Пробка. Не разойтись. Сгрудились малыши. Гогочут возмущенные гуси, их разгневанный вожак готов уже броситься на ребят, чтобы пробить дорогу. Но страх берет в нем верх, и он сходит на мостовую, увлекая за собой всю свою крикливую компанию. Путь малышам открыт. И мы — за ними. Идем мимо волейбольной площадки, над которой взлетает мяч, так же как он взлетает сейчас где-нибудь в подмосковной Малаховке. Хотя вряд ли там в это время играют в волейбол: под Москвой сейчас глубокая ночь, ведь мы заехали «вперед» на девять часов… Идем мимо сельмага, клуба, зверокомбината, редакции газеты «Алеутская звезда», мимо сберегательной кассы. Вот баня, загс, отделение милиции. Все есть в районном селе Никольском, столице Командорских островов!
А небо, небо над Командорами и в самом деле сумрачно. Оно словно позаимствовало свои невеселые тона у скал. А может, скалы окрасились под цвет неба. Даже океан и тот возле островов кажется более темным.
Да уж, поскупилась тут природа на светлые краски, особенно на зеленую. Ни деревца. Впрочем, надо уточнить: не было ни деревца. Мы видели первые деревья на Командорах! Они посажены на площади перед памятником Ленину: с десяток тополей и столько же березок. Топольки — молодцами: цепко ухватились за эту скудную землю, пошли в рост, брызнули новыми свежими листочками. Березки — те покапризней, их еще холить и холить, но и березки поднимутся, сильны и в них живительные соки.
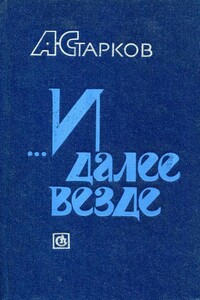
Повесть А. Старкова «...И далее везде» является произведением автобиографическим.А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
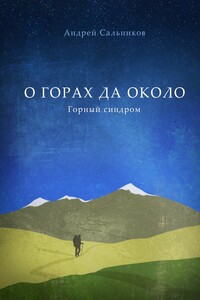
Побывав в горах однажды, вы или безнадёжно заболеете ими, или навсегда останетесь к ним равнодушны. После первого знакомства с ними у автора появились симптомы горного синдрома, которые быстро развились и надолго закрепились. В итоге эмоции, пережитые в горах Испании, Греции, Швеции, России, и мысли, возникшие после походов, легли на бумагу, а чуть позже стали частью этого сборника очерков.

В этой книге все просто. Никаких “поверните направо, а потом налево”, “здесь вы можете купить магнит, а здесь нет”, “вам стоит посетить историческую постройку никто не помнит какого века”. Об этом много написано и сказано, достаточно заглянуть в Google. Мы с Саньком вернулись из Италии с огромным багажом и ручной кладью крутых эмоций, знакомств и приключений, которыми захотелось поделиться. Написанное ниже будет полезно для начинающих путешественников, любителей приключенческих историй и всех тех, кто не прочь посмеяться над чужими провалами.
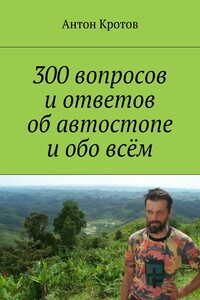
Автор отвечает на самые популярные вопросы, которые задают ему слушатели лекций, читатели его книг, другие путешественники, их родители и различные журналисты. В первом издании «вопросно-ответной» книги, вышедшей в 2001 году, было 134 вопроса. Перед вами уже восьмое издание, обновлённое весной 2017 года с самыми современными ответами.
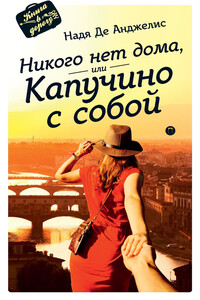
Новая книга автора «Чувства капучино» Нади Де Анджелис – это учебник по путешествиям, настольная книга каждого, кто собирается в дорогу или только мечтает об этом.
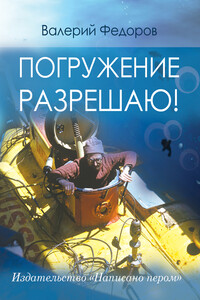
Книга В. В. Федорова рассказывает о подводных исследованиях в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, которые проводились с применением отечественных обитаемых аппаратов «Тинро-2», «Север-2» и «Омар». Более чем в ста погружениях автор принимал личное участие, вел визуальные наблюдения на глубинах до 1500 м. Читатель узнает о том, какие диковинные рыбы, крабы, моллюски, кишечнополостные, губки и другие животные обитают в глубинах морей и океанов. Некоторых из этих животных удалось сфотографировать во время погружений, и их можно видеть в естественной среде обитания.

Неизвестно, узнал бы мир эту путешественницу, если бы не любовь. Они хотели снарядить караван и поплыть по горячим барханам аравийских пустынь. Этим мечтам не суждено было сбыться. Возлюбленный умер, а Гертруда Белл отправилась в опасное путешествие одна. Она обогнула мир, исколесила Европу и Азию, но сердцем осталась верна пустыне. Смелая европейская женщина вызывала неподдельный интерес у сильных мира сего. Британское правительство предложило ей сотрудничество на благо интересов Англии. Когда решалась судьба Египта, на международной конференции присутствовали все ведущие политики мира.
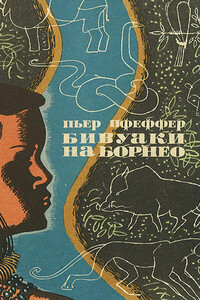
Французский зоолог Пьер Пфеффер (позднее — почетный директор Национального центра по научным исседованиям при Национальном музее естественной истории, почетные президент WWF — Франция) был участником длительной экспедиций в джунгли северо-восточного и центрального Калимантана (Борнео). Многодневное путешествие вверх по рекам Каяну и Бахау и многомесячная жизнь среди коренных обитателей острова — даяков и пунан — превратились в цепь интереснейших приключений, иногда забавных, а иногда и в высшей степени опасных.
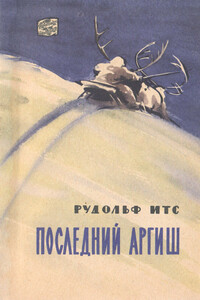
На Туруханском Севере, в безмерной сибирской тайге затеряны стойбища кетов — маленького народа, обреченного в прошлом на вымирание. Советская власть возродила к жизни все народы Сибири и в их числе кетов. Труден и сложен был путь к новому. О прошлом кетов, о становлении их новой жизни рассказывает повесть «Последний аргиш». Ленинградский этнограф Р. Ф. Итс, известный читателю по книге «Цветок лотоса», не один раз участвовал в экспедициях по Туруханскому краю. Знакомство с жизнью, бытом и обычаями кетов, хорошее знание их прошлого, их преданий и легенд позволили автору создать правдивую и увлекательную повесть.
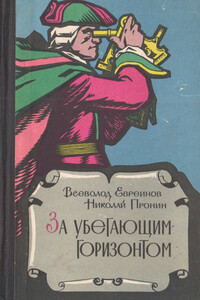
Эта книга об экспедиции выдающегося французского мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля, совершившего кругосветное путешествие в конце XVIII в. В книге рассказывается о трудностях, выпавших на долю моряков в борьбе со стихийными силами природы, описываются интриги иезуитов, козни придворных сановников — врагов науки и прогресса, препятствовавших успеху экспедиции. Живо даны образы замечательных спутников Бугенвиля — ученых, навигаторов, морских офицеров, матросов; повествуется о судьбе первой женщины, совершившей кругосветное плавание, хитростью попавшей на корабль.
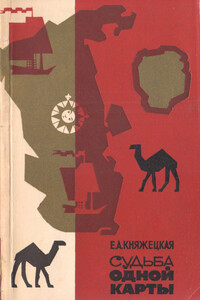
В 1717 г. Петр I передал Французской академии наук первую верную карту Каспийского моря. Ее составителем был Александр Бекович Черкасский — видный государственный деятель петровского времени. Необыкновенная судьба постигла и карту, и самого ее составителя, которому Петр I поручил осуществить свой грандиозный проект — поворот реки Аму-Дарьи в Каспийское море. Черкасский трагически погиб во время Хивинского похода, карта его была предана забвению, и долгое время ее считали утерянной. Лишь в 1951 г.