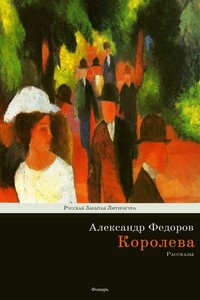Осенняя паутина - [44]
И тут, назойливо просившаяся ему на язык, фраза сорвалась как-то сама собой:
— Извините, у вас маленький беспорядок: кончик белой тесемки...
Она машинально и торопливо сделала невольное движение рукою вокруг талии, и кончик белой тесемки исчез.
Это было неожиданное и нелепое при такой встрече вступление, но оно дало им возможность несколько очнуться. Испуг уступил растерянности, с которой они глядели теперь друг другу в глаза.
— Вы остались все такая же, — сказал он, наконец, со странной улыбкой и задержал в своей руке её руку, которая чуть-чуть дрожала.
— Что вы! Куда уж такая.
— Нет, я не о том...
Она догадалась, жалко улыбнулась: поняла, что он вспомнил, как всегда подшучивал над неисправностью её туалета.
— Ах, вы вот о чем! — сказала она печально, опуская глаза, и лицо её стало бледным.
Оба в волнении молчали, не зная о чем говорить дальше; она тихонько освободила из его рук свою и пошла, видимо, не уверенная, последует ли он за ней.
Но он не мог так расстаться с ней после того, как они не виделись более десятка лет; тянуло узнать, как она жила эти годы и чем жила.
Нехорошие слухи об её жизни подтверждались отчасти этими подведёнными глазами, этой пудрой, покрывавшей лицо и почему-то особенно заметной на носу и подбородке, и ещё чем-то неуловимым, но обличительным, что сказывалось в её костюме и, может быть, даже в выражении все ещё красивого, чуть-чуть начинающего блекнуть, лица.
— Ведь вот какая странная встреча, — сказал он, ступая не в ногу рядом с нею.
— Почему странная? — ответила она, избегая глядеть на него. — Я знала, что вы здесь, и даже...
Она нерешительно приостановилась.
— И даже? — повторил он, побуждая её докончить начатое.
— ...Я видела вас раза два. Да, именно два. Один раз в театре, другой раз на улице, но вы...
— Что я? Договаривайте.
— Вы сделали вид, что не узнаете меня.
Он с искренней горячностью стал убеждать её, что это неправда. И рассказал о том, как лишь раз мельком её увидел, но сомневался.
Она, как будто не слушая его, продолжала своё:
— Ещё в театре, это я понимаю, вы были с женой. Но на улице...
— Да нет же. Клянусь вам, нет. Будь я тысячу раз с женой, я не имел основания не поклониться вам.
Она взволнованно раскрыла свою сумочку, достала надушённый платок, торопливым движением стерла пудру с лица.
— О, таким, как я, кланяются только в сумерки и без свидетелей, — заявила она уже с горьким раздражением, и тем окончательно рассеяла последние сомнения относительно справедливости нехороших слухов.
Однако, у него не хватило духу принять это сознание с такой же искренностью, с какой оно было сделано, и он с фальшивым удивлением ответил:
— Такой, как вы! Не знаю, о чем вы говорите, но для меня вы все такая же, как были раньше.
Она отлично поняла эту фальшь и нервно закачала головой.
— Ах, не говорите, не говорите неправду. Вы знаете, видите, какой я стала...
У неё почти истерически задрожал голос, и эта мучительная дрожь голоса была также характерна в её положении.
У него не хватило духу продолжать притворство.
Она, не глядя на него, прибавила шагу, точно стараясь от него уйти или давая таким образом ему возможность незаметно отстать.
Но Звягину было как-то не по себе: теснила потребность в чем-то оправдаться перед нею и перед самим собою.
— Вера, вы сердитесь на меня? — нерешительно, мальчишески вырвалось у него.
Она обернулась и, как ему показалось, с некоторым пренебрежением на него взглянула. Сказала как-то монотонно холодно:
— Вот вы, действительно, не переменились, все такой же. И это поважнее моих туалетных промахов.
Она, конечно, говорила тоже не об его наружности. Он понял, о чем она говорила, и как-то неловко съёжился.
III
Это было двенадцать, нет, тринадцать лет тому назад.
Он жил на приморской даче на уроке и готовился к государственному экзамену с таким усердием, что зубы скрипели от напряжения.
Особенно трудно было заниматься потому, что сияла полная весна, и море, и земля, и небо как будто справляли страстную свадьбу.
По временам, когда голова вспухала от науки, он бросал на несколько минут лекции и бежал к морю, чтобы вздохнуть и осветить морской синью и ширью глаза, в которых рябило от черных строк и параграфов.
Так было и тогда.
Он даже не надевал своей студенческой фуражки, отрываясь от книг: только на минуту освежить голову и взгляд, и — опять к книгам.
Устало сошёл он вниз к морю и остановился на невысоком обрыве, у развалин.
За его спиной закатывалось солнце, а прямо перед глазами развёртывалось широко и ясно море.
Был такой светлый покой и тишина, что золотисто-розовые от заката облака отражались в море неподвижно алыми столбами, рыбачьи лодки вдали скользили, как паучки.
Большой пароход взял курс на Константинополь и неосвещённый борт его был почти черен, в то время как освещённый сиял кованным золотом.
Вдруг он услышал плеск внизу. Сначала ничего не понял, потом взглянул и обмер.
В нескольких шагах от безлюдного песчаного берега, лицом к нему, стояла, немного больше, чем по колено, в воде девушка. Она сняла с себя купальную рубашку и стояла в воде совсем нагая, и вода была так прозрачна вокруг, что стройные ноги её на каменистом дне были видны ему сверху до самых пальцев.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
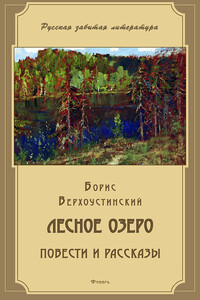
«На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет — и бросит, оторвет — и бросит, туда, вниз, в зелень листвы. Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука!..» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Лесное озеро (расс. 1912 г.). • Идиллия (расс. 1912 г.). • Корней и Домна (расс. 1913 г.). • Эмма Гансовна (пов. 1915 г.).
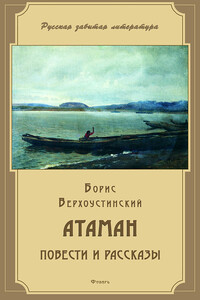
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.

«Осенний ветер зол и дик — свистит и воет. Темное небо покрыто свинцовыми тучами, Волга вспененными волнами. Как таинственные звери, они высовывают седые, косматые головы из недр темно-синей реки и кружатся в необузданных хороводах, радуясь вольной вольности и завываниям осеннего ветра…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Перед половодьем (пов. 1912 г.). • Правда (расс. 1913 г.). • Птица-чибис (расс.

Михаил Владимирович Самыгин (псевдоним Марк Криницкий; 1874–1952) — русский писатель и драматург. Сборник рассказов «Ангел страха», 1918 г. В сборник вошли рассказы: Тайна барсука, Тора-Аможе, Неопалимая купина и др. Электронная версия книги подготовлена журналом «Фонарь».