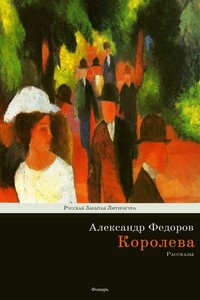Ясным августовским утром по кладбищу невидного губернского города бродила барышня лет восемнадцати-девятнадцати и с нею юноша, года на полтора моложе её, но казавшийся совсем мальчиком перед нею.
Она была довольно высока ростом, и в её ещё не вполне налившейся тонкой фигуре сказывалась грация, зыбкость и нежность, по которым сразу можно отличить девушку от женщины. И в походке её, и в том, как она держала слегка склонённой направо голову с пышными белокурыми волосами, принимавшими на солнце золотисто-рыжеватый оттенок — во всём сквозила благородная прелесть, свойственная натурам, ещё нетронутым. Тонкий контур лица был очерчен нежно и отличался редкой правильностью. Такой же правильностью поражали линии носа и лба, в сочетании своём напоминавшие верхнюю половину лица сфинкса. Глаза её были голубовато-серые, безо всякого блеска, но с таким чистым хрусталиком, как будто его никогда не мутили слёзы. И всё же в этих глазах да в строгом очерке губ можно было, вглядевшись пристальнее, заметить что-то глубоко-затаённое, загадочное, властное и внушавшее невольно поклонение. Недаром кто-то, полушутя, назвал её королевой, и с тех пор так её звали все, кому разрешалась эта почтительная фамильярность.
Одета была королева просто, даже бедновато, в английского фасона кофточку, едва ли не домашней работы, мужские воротнички и длинный красный галстук. Красная же, в тон галстука, юбка слишком плотно охватывала узкие бедра и заставляла предполагать, что ей пришлось уже побывать в переделке. Но и на самый этот неизысканный костюм распространялось обаяние её красоты и свежести.
Она тихо брела проторённой тропинкой среди могил, крестов и памятников, иногда задевая их тонкой тросточкой с серебряной загнутой ручкой, которую, по-видимому, взяла у своего спутника, только что окончившего курс реалиста Серёжи Кашнева. Он то шёл рядом с ней, когда позволяла тропинка, то старался попасть за нею на её следы. Был он немного неуклюж, вернее, неловок в движениях, как подросток, ещё не овладевший своими манерами, хотя довольно строен и правильно сложен. Лицо у него было веснушчатое, с пухлым ртом и немного мясистым носом, подбородок слегка раздвоенный, и глаза карие, близорукие, добрые и вглядчивые. Он шёл, вертя в руках фуражку и с удовольствием чувствуя иногда, как ветер шевелит его мягкие слегка вьющиеся волосы.
Они редко обменивались фразами. Очевидно, на обоих действовала обычная кладбищенская тишина, такая всегда многозначительная и покоряющая, а в это тихое осеннее утро полная особенно ясно выраженным настроением величавой, всепримиряющей покорности и кроткой, притягательной грусти. Всё здесь, начиная от примятой кое-где уже не свежей травы, редких поникших деревцов и кустарников и кончая крестами, камнями и памятниками, всё как будто понимало, где оно растёт и что собою украшает, и потому всё было проникнуто одним и тем же настроением, — мало того, всё по-своему как бы дополняло его и вносило в него свои собственные тонкие черты, заметно усложнявшие общую гармонию. Даже птицы здесь пели как будто не так, как везде, точно это были специально кладбищенские птицы, а не те, что летают на свободе, в цветущих полях и весело шумящих лесах.
— И что у вас, королева, за страсть к кладбищу? — немного испугавшись ящерицы, скользнувшей почти из-под самых ног его и принятой им за змею, сказал юноша, начав с высокой, почти детской ноты и кончая неестественно низким басом, для которого ему пришлось даже опустить подбородок.
— Паж мой, вы ничего в таком случае не понимаете, — ответила она ровным и таким же чистым, как и её лицо, голосом и оглянулась на него.
— Да тут нечего и понимать, королева. Мертвечина, одно слово, и больше ничего.
— Паж мой, вы никогда в таком случае не будете настоящим скульптором, хотя у вас есть талант и вы едете в академию.
— Это почему, королева?
— Потому, мой паж, что вы не понимаете и не чувствуете особенной красоты этого настроения…
— Да где оно, это настроение-то?
— Как где? Да в самом воздухе, паж.
— Ну, а по-моему, королева, в воздухе только мертвецами тут пахнет. Тлением… Смертью… Здесь и самые цветы-то и растения покойниками продушились.
— Фи, какие вы гадости говорите, — не выдержала она своего насмешливо-снисходительного тона, но не могла не улыбнуться его словам, сказанным с искренним, убеждением.
Ободрённый этой улыбкой, он продолжал, желая сказать нечто внушительное по своей серьёзности:
— Красота только там, где жизнь, где радость… А тут печаль и смерть. Какая же тут красота?
— Во-первых, я говорю не о внешней красоте, а, во-вторых, в печали больше красоты, чем в радости, потому что печаль чаще всего благородна и возвышенна по существу, а радость, наоборот, вульгарна, и, в-третьих, смерть — понятие условное… Так-то, мой паж! — снова впадая в снисходительно-насмешливый тон, закончила королева.
— Хороша условность, смерть… Нет, уж коли зарыли человека, да камешком ещё припечатали, так какая тут условность!
Она улыбнулась одним левым уголком губ на эту детскую фразу и пошла дальше, задев по пути концом тросточки истлевший от солнца, ветра, дождей и времени на деревянном кресте венок, который сразу осыпался.