Опровержение - [20]
И хоть помираю в нетерпеливости от одного даже сосисочного запаха горячего, подхожу к окошку и свешиваюсь наружу: конечно же, кто мог сомневаться, Жорка стоит задрав голову.
— Семен, — увидал он меня, — Варька дома?
Я оглянулась на нее, она трясет головой: нет, мол, ее.
Я и кричу вниз:
— Здесь. А что?
— Пусть вниз сбежит. Дело есть!
Я опять на Варьку глаз скашиваю, она опять головой делает: нет, мол, не пойду.
Но я-то вижу, что она бы очень даже сбежала со всей охотой. Я и отвечаю ему:
— Сейчас! Подожди!
А Варвара моя совсем смутилась: только что самоубийством кончала, а тут на тебе, сразу на свидание!
— Ну что ты, Семен!.. — возмущается она. — Как же так, сразу?
— Ха, — говорю, — подумаешь! Иди.
— Нет, — не решается она, — все-таки…
— Он парень ничего, — говорю я ей.
— Правда? — обрадовалась она. — Ты так считаешь?
— Иди, — говорю, а самой уже не терпится за сосиски с зеленым горошком приняться. — Иди, чего там.
— Нет, ты правда так считаешь? — еще сомневается она, а сама уже из-за простыни на стене сарафан свой на плечиках достает. — Нет, ты правда так думаешь?..
Будто мое мнение вдруг для нее решающим стало.
— Что за вопрос? — говорю, а самой стало отчего-то грустно и неуютно вдруг, а с чего бы, строго говоря?..
А Варька уже сарафан на себя натянула, ноги в босоножки без задников сунула.
— Ты на меня не сердишься? — спрашивает, а сама прическу перед зеркалом наспех делает.
А за что мне на нее, казалось бы, сердиться? Мне-то что!
А она уже из окошка свесилась и свеженьким голосом Жорку обрадовала:
— Иду!
И на ходу уже, на лету — чмок меня в щеку, раз — сосиску с тарелки, два — сунула в рот, три — дверь за собой прикрыть забыла.
Я ей вслед и сказала, только навряд ли она услышала:
— Эх, ты, Анна Каренина…
И одна осталась.
Такой вариант.
Но сосиски с горошком и со свежей булкой ем с большой охотой. Вполне возможно, что я в тот раз все кило одна и съела.
Ем, сосиску в горчицу макаю, лук в соль, заедаю горошком, чаем горячим запиваю — чем не жизнь!
А все равно мне обидно оттого, что никак мне не понять — отчего это мне вдруг обидно стало? Какая причина?
И так я от этих мыслей незаметно наелась до полного изнеможения, что ни встать сил нет, ни пошевелиться, голову рукой подперла, грущу себе на сытый желудок, а сама уже засыпаю и сон свой многосерийный досматриваю.
На этот раз такой вариант мне крутят: сижу я за столиком белым плетеным на берегу неизвестной речки, опять в рощице березовой осенней, а сама я в белом гипюре вся до полу и в шляпе белой с белыми кружевами, и хоть это определенно я, но в то же время и Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной в одноименном фильме, а передо мной напротив — в белом мундире без пятнышка и золотых погончиках с висюльками Василий Лановой — граф Вронский Алексей Кириллович, но, строго говоря, с лицом опять же Гошки, только с баками и усиками графскими, а я тихо так и достойно держу в руке бокал с шампанским шипучим и говорю ему.
«Нет уж, уважаемый граф, — говорю, — уж не обессудьте, но только я самоубийством по вашей милости кончать не намерена. Тем более — под поезд бросаться. Не дождетесь. Вот вы думаете, дорогой граф, что без вас мне уж и деваться некуда, кроме как под поезд, — так горько ошибаетесь, потому что я себя в обиду не дам. Тем более, что больной вопрос насчет моего малолетнего сына Сережи тоже вполне уже решен: я его в детсадик круглосуточный на пятидневку определила, Иван Макарович, спасибо, помог. Так что и это, строго говоря, отпадает. Женщина гордость должна иметь, дорогой граф, и самостоятельность. А что люблю я вас — это правда, врать не буду. Есть такое. Так ведь мне за мою любовь от вас ничего не надо. А если вы не способны на ответное чувство, если ни сердца у вас, ни совести, ни мужского самолюбия — так мне не себя, мне вас жалко. И не возражайте, не тратьте слов. Кто любит — тот и счастлив. А если нет в вас любви, если сердце ваше молчит и холодное, как ледышка, — вот вы и стреляйтесь, господин Вронский, вы и кидайтесь под поезд, а я не стану. Такой вариант, дорогой граф».
Но тут он встает, подходит ко мне, становится на одно колено, невзирая на свои белоснежные штаны с золотым лампасом, и легонечко, как пушинку, поднимает меня от земли.
«Я люблю вас… — говорит он шепотом, глядя в мои глаза, — я люблю вас…»
И тихонечко и нежно переносит на белую и мягкую, как взбитые сливки, необъятную графскую койку, и тихо целует в руку, и опять шепчет: «Я люблю вас!..»
И тут я просыпаюсь на своей постели в общежитии и рядом со мной на табурете сидит Гошка — представляете? — и молча глядит на меня.
8
А заснула-то я за столом, недоев молочных сосисок с горошком. Стало быть, если я на койке на своей очутилась, значит, кто-то меня туда, строго говоря, на руках перенес, так? Кто? Гошка?! И вскакиваю как ошпаренная от стыда и ужаса.
— Ты что? — кричу. — Ты откуда? Ты как здесь?
А он сидит на табурете, и я впервые гляжу на него сверху вниз, я даже его макушку лохматую в первый раз в жизни увидала, и вдруг по этой, надо думать, причине мое отношение к нему стало такое, будто я старшая, взрослая совсем, а он — младший, слабенький, и я его жалею и… одним словом, такой вот вариант.

Пьеса Ю. Эдлиса «Прощальные гастроли» о судьбе актрис, в чем-то схожая с их собственной, оказалась близка во многих ипостасях. Они совпадают с героинями, достойно проживающими несправедливость творческой жизни. Персонажи Ю. Эдлиса наивны, трогательны, порой смешны, их погруженность в мир театра — закулисье, быт, творчество, их разговоры о том, что состоялось и чего уже никогда не будет, вызывают улыбку с привкусом сострадания.

При всем различии сюжетов, персонажей, среды, стилистики романы «Антракт», «Поминки» и повести «Жизнеописание» и «Шаталó» в известном смысле представляют собою повествование, объединенное неким «единством места, времени и действия»: их общая задача — исследование судеб поколения, чья молодость пришлась на шестидесятые годы, оставившие глубокий след в недавней истории нашей страны.

«Любовь и власть — несовместимы». Трагедия Клеопатры — трагедия женщины и царицы. Женщина может беззаветно любить, а царица должна делать выбор. Никто кроме нее не знает, каково это любить Цезаря. Его давно нет в живых, но каждую ночь он мучает Клеопатру, являясь из Того мира. А может, она сама зовет его призрак? Марк Антоний далеко не Цезарь, совсем не стратег. Царица пытается возвысить Антония до Гая Юлия… Но что она получит? Какая роль отведена Антонию — жалкого подобия Цезаря? Освободителя женской души? Или единственного победителя Цезаря в Вечности?

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
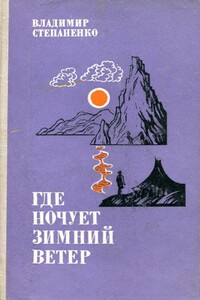
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

