Новый мир, 2012 № 09 - [35]
И тогда вопреки в некотором смысле и запланированным искушениям автора из-за желания близкой развязки, то бишь финала обеих историй, как-никак, но связанных друг с другом, Орест Константинович решил иначе распорядиться своей жизнью — он не умер на суде и от суда не умер.
Вышел, наконец, вон и, миновав жалкий скверик со спецплощадкой для “воронков”, очутился на вечерней улице, очутился как очнулся, потому что город, в котором он жил, любил, хоронил и лечил, лечил, лечил, единственный для него, нежно обступил, обхватил сумерками, что-то ветрено зашептал в уши, уютно захлюпал под ногами, осветив мягким светом сугробы. Да, его город еще хранил свое тайное очарование.
Подумал — призрачное. Повторил тихо вслух. И определил наконец, что есть старость. Старость — это когда начинаешь разговаривать сам с собою.
Теперь он шел мимо особнячков и домиков переименованного в улицу Чайковского Новинского бульвара; деревья были вырублены еще когда, но желто-коричневые, розово-белые, шелушащиеся, покосившиеся обиталища сограждан были живы, как и уцелевшие сограждане, и в них, в этих неказистых жилищах, упрямо теплилась скрытая занавесками жизнь. И дом-корабль на приколе спускавшихся к реке переулков возжег свои иллюминаторы, а когда, миновав площадь, он обернулся, строящаяся высотка светилась, как елка. Но и особняк сатрапа через улицу был прекрасен в этот час, а лица вертухаев буднично безопасны и, кажется, румяны. Не поворотив на Патриаршие, домой, он шагал дальше, к старому университету, к консерватории, и мысль о прощании со всем, что любил, не покидала и не страшила, но и приближать неизбежный конец он сейчас не хотел, ревниво оберегая спустившуюся к нему с сумерками тишину.
У витрины их маленькой — гомеопатической — аптеки он остановился, все грозились закрыть, но пока не закрыли, и глянцевитая трехлепестковая макушка фикуса, вынянченого Викусей, выглянула, как любопытный подросток.
О, это Викусино патетическое — про вечно зеленеющий фикус.
Странно, он явственно услышал сейчас ее голос, как она это говорила. И подумал, что он слишком непреклонен с Калерией. Еще до всего, что случилось, — все и случилось. После гибели Веры ему нельзя было жениться, но тогда, выйдя на волю, опять захотелось испытать счастья. И представилась Калерия — такой, как увидал впервые — с одноглазой лисой на плечах, и как она прошла мимо, склонив голову, а Викуся вслед с нежностью — моя девочка, и он явственно увидел саму Викторию Карловну, близоруко склонившуюся у кассы, во всегдашней блузке из пожухлого шелка.
И так хотелось кому-то сказать об этом, но он привык никому не доверять своих мыслей. И вдруг вспомнил, а ведь совсем недавно разговорился. Это был его постоянный больной, фамилия странная — Лючин. Поэтому и запоминается. Ученый, а последний раз пришел в форме. Скворцов даже пошутил некстати: “Вы просто прокурор!..” И тот покраснел. Теперь редкое свойство. Его мать, актриса, ходила к его учителю, а этот пациент появился у него еще в тридцатых, когда Доктора посадили. Такой толстый мальчик. Привел отец, вальяжный и ироничный. А сын стеснялся себя, облика своего нестандартного. Скворцову казалось, что Лючину-младшему никогда не устроиться в этой жизни, но у того, кажется, нормально. Кроме больного сердца. Волноваться пациенту нельзя, и вообще никаких перегрузок…
Он тогда добавил, кажется, что-то ему для сна, но, поглядев на Лючина, спросил вдруг:
— Хотите коньячку?
— Разрешаете, доктор?
— Со мной — да!
Сзади и вокруг Скворцова, как примерзшего к аптечной витрине, раздались голоса, шаги. Он понял, закончился концерт. Вспомнилась афиша на столбе и что сегодня дают Моцарта, Сороковую, соль минор. Почему-то Моцарта не запретили. Люди ходят в консерваторию, и вообще хотят жить люди. Кстати, Лючин тогда спешил в театр.
И так, бродя взад-вперед по родному московскому клину: от Кудринки к Манежу и к Воздвиженке, через Собачью площадку на Арбат и дальше переулками к прежней Пречистенке, а потом назад, по бульвару, он ходил и думал, не зная толком о чем и куда идет, но ощущая свой город как живое, одушевленное существо, а тот и был в сей час и надолго вперед его единственным собеседником.
XIX
Змей, тоже гомеопат, напомню — “подарок” от аллопата, подымает палец и жует губы… Это совсем другое время.
— Вы знаете, сколько это стоит там? — вопрошает Змей.
Пациент явно не знает.
А Змей почти брезгливо прослушивает, простукивает вас, почти с недоумением, и головою кивает невпопад — этот старый маятник сам болен чем-нибудь вроде Паркинсона, но длинные руки с жесткими пальцами так сильно поворачивают ваше тело, когда он, выпятив губу, изучает вас, почему-то раскачиваясь, кажется, он напевает — о, внутри его не по годам крепкого остова воют трубы песков, жары, верблюдов, горячих троп, белой раскаленной земли, он и качает головой как азийский аксакал, этот чернокнижник колен Израилевых, семит, состарившийся в чужом мерзком климате, в холодной стране, во внезапно рухнувшей Ниневии. Но его рецепт, выписанный на чахлом листике со слабой фиолетовой печатью, — чудодейственен. Да, верно, он был самым гениальным из этих кудесников, доползший до сегодняшних дней, этот выкормыш гонимых, с тонкими презрительными губами, с острым кадыком и пергаментными пальцами, которыми он пересчитывал деньги, не желая следовать извечным правилам, когда по возможности свежий конверт под занавес визита, и, конечно, конверт терялся, и шепот — куда ты его сунул? сунула? — и потом, вроде как незаметно, в карман доктора, поскольку предполагалось, что не за деньги же! и клятва Гиппократа! ну, не только за деньги! Почти заповедь. А Змей не желал чтить интеллигентские заповеди. Он вскидывает конверт, словно проверяя, сначала на глазок, а затем нетерпеливо рвет его по краю, вытряхивая на ладонь заработанный гонорар. Как алчно перебирает он денежные купюры! Разве можно раскрывать конверт для пересчета ассигнаций, когда и конверт стыдливо отдавали в едва освещенных, заставленных всяческим хламом московских прихожих? А Змей, напротив, требует света — миньон в люстре, как нарочно, мигает и гаснет, — он надевает очки и еще больше поджимает рот, сортируя влажные бумажки с пока не прикрытого властями или Кобзоном — по слухам! — Тишинского рынка.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?
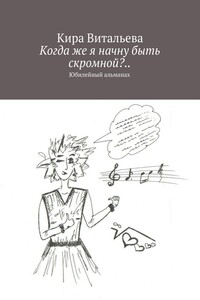
Альманах включает в себя произведения, которые по той или иной причине дороги их создателю. Это результат творчества за последние несколько лет. Книга создана к юбилею автора.

Помните ли вы свой предыдущий год? Как сильно он изменил ваш мир? И могут ли 365 дней разрушить все ваши планы на жизнь? В сборнике «Отчаянный марафон» главный герой Максим Маркин переживает год, который кардинально изменит его взгляды на жизнь, любовь, смерть и дружбу. Восемь самобытных рассказов, связанных между собой не только течением времени, но и неподдельными эмоциями. Каждая история привлекает своей откровенностью, показывая иной взгляд на жизненные ситуации.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.
